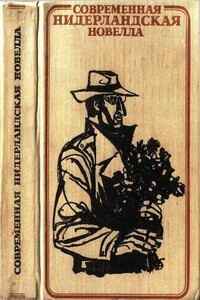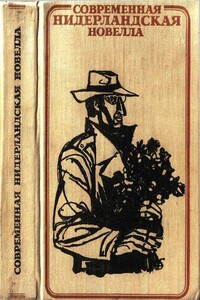Она вошла к нему, преисполненная надежды.
Но муж был жив.
Он лежал в постели и велел ей привести врача.
Мефрау Ван Дам сделала и это. Пусть все будет как положено.
Врач пришел, осмотрел его, выписал рецепт и в коридоре сказал ей:
— Ваш муж очень серьезно болен. Сердце. Вы позвали меня слишком поздно. Очевидно, он уже несколько месяцев плохо себя чувствовал. Ваш муж давал своему сердцу непосильную для его возраста нагрузку.
— Что да, то да, — ответила она.
Врач заметил, что она вроде бы улыбается. Но он был старый домашний врач и давно уже ничему не удивлялся.
Мефрау Ван Дам сходила в аптеку за порошками. Однако они не помогли. Муж скончался в тот же вечер. Эту пятницу он провел дома, с ней. Когда он умирал, она сидела у его постели. Он был в полном сознании. Он не разговаривал с ней. Не сказал последнего прости. Не выказал ни малейшей слабинки. Не смотрел на нее. Она сидела у его постели, но он мужественно умирал в одиночку — пятидесяти восьми лет от роду.
— Все вышло по-моему, — говорит мефрау Ван Дам. — Он отправился на тот свет молодым. Теперь я заполучила денежки, и мне едва сравнялось шестьдесят, есть еще время пожить в свое удовольствие. А шлюха осталась с носом.
В трамвае я увидел Лушье. Это дочь моего приятеля, юная особа лет двадцати.
— Ну что, экзамены сегодня сдавала?
— Вчера.
Голос у нее был безрадостный, и дремавший во мне до сих пор брат милосердия незамедлительно встрепенулся и едва не брякнул: мол, ничего, на будущий год сдашь.
Но ее короткого «да сдала я» было достаточно, чтобы усадить его на место. Хотя обычно таким тоном говорят «провалилась».
— Поздравляю, — нашелся я. — Ты, значит, хорошо поработала. Вот, держи десяточку. Купи себе какой-нибудь пустячок, это самый приятный способ тратить деньги.
— О, спасибо. — Тут она впервые улыбнулась.
— Слушай, ты говоришь, сдала, но я что-то не вижу особой радости на твоем лице.
Ответ, который я от нее услышал, могла дать только женщина.
— У меня был устный. Шесть предметов, шесть экзаменаторов. Пять мужчин и одна женщина. Ну вот я и надела мини.
По выражению моего лица она сообразила, что я тщетно пытаюсь проникнуть в смысл ее «ну вот», и поспешила разъяснить:
— Так вот, если бы мне у всех пятерых повезло… А то трое — мухоморы старые, они вообще ни на что уже не смотрят. Правда, другие двое… Я рассчитывала на шестерку,[49] а они оба поставили восьмерки.
— Вот так мадам тебе подвернулась, — вставил я со своей стороны, — я кое-что начинаю понимать. Ведь и в просвещении, в конце концов, работают такие же смертные, как и мы. Впрочем, продолжай и расскажи в доступной мужчине форме, отчего вместо триумфа на твоем лице печать неудовлетворенности.
— Так вот эта единственная… Конечно, я рисковала с моим мини. Ей-то далеко за сорок, не замужем и злющая. Всем симпатичным девчонкам она всегда занижает отметки. Из зависти, конечно. Я же понимаю. Правда, ее предмет я знаю неплохо. Минимум на восемь. Так вот, я подумала, хорошенького понемножку: получу у нее свою шестерку, и хватит.
— Понимаю, понимаю, — закивал я, — ты знала на восьмерку, рассчитывала на шестерку, а получила четверку. Это тебя и разозлило.
Она покачала головой и вздохнула.
— Все как раз наоборот. Не четверку она мне поставила, а девятку.
И красноречиво-недоуменным взглядом она окинула свою фигуру.
— Неужели я такая уродина?
— Дитя мое, на ее месте я влепил бы тебе пару, это точно.
* * *
Когда амстердамский поезд сделал остановку в Лейдене, в вагон вошли две женщины и мужчина.
Все трое среднего возраста.
Женщины, которые, похоже, уже давным-давно перестали думать о своей талии, уселись напротив меня. Мужчина — длинный, худой и лысый — занял место рядом со мной у окна, после того как одна из женщин, видимо его жена, бросила:
— Давай, Пит, садись-ка вон там. В окошко будешь смотреть. — И, обращаясь к соседке, добавила: — Это он больше всего в поезде любит: сидит и смотрит себе наружу. И все молча. А вот поговорить — это для него хуже пытки. Так, Пит?
— Да. — По тону мужчины можно было догадаться, что произнести и это-то слово — для него большой труд.
— Вот, полюбуйся. И так всегда, — продолжала женщина. — По крайней мере в последние годы. А раньше — нет. Уж в молодости мы вволю повеселились. Бывало, праздник какой — тут он был первый заводила. Сейчас по нему этого не скажешь. Молчуном стал. И дома тоже. Я-то не прочь поболтать, только от него ответа не дождешься.
— Не позавидуешь, — согласилась другая.
Мужчина глядел в окно.
— Да ничего, привыкаешь, — снова заговорила первая, без тени раздражения или злобы в голосе. — Проживешь, как я, тридцать два годика под одной крышей, и не такое увидишь. Раньше, бывало, ссорились. Сидишь так, весь вечер рассказываешь что-нибудь, рассказываешь, а он молчит и молчит. Ясное дело, начинаешь заводиться. А лет восемь назад он взял да и купил телевизор. И теперь что ни вечер включает его и смотрит, а попробуй заговорить — сразу: тсс… Я, понятно, молчу или иду на часок-другой к соседке.
Вторая женщина понимающе-сочувственно поджала бы. Но, прежде чем она успела открыть рот, первая, не переводя дыхания, уже продолжала: