Несчастное сознание в философии Гегеля - [3]
Та ирония, о которой мы говорим, приносит с Собой новую ясность. В конце концов все усилия будут оправданы, и окажется, что они были предприняты в надлежащий момент. Несчастье, которое является обращением одной из этих крайностей в другую, само становится перевернутым несчастьем, становится счастьем.
Шопенгауэр показывает нам, как романтизм Приходит к несчастному сознанию; проблема, которую ставит Гегель, может быть выражена в терминах, используемых Стирлингом: «Следует ли на самом деле завершать свою систему, как это сделал Шопенгауэр? Существует ли другое сознание, кроме сознания несчастного?»[5]
II. Антитетическая игра и попытка синтеза
Однако этих переходов и обращений недостаточно, чтобы мы поняли гегелевскую диалектику. Мы в таком случае остаемся, так сказать, на том же уровне мышления; Гегель учитывал, например, что всеобщность, которая была бы чистой противоположностью индивидуальности, была бы не истинной всеобщностью, а наоборот, простой индивидуальностью, только в другой форме. Следовательно, речь шла бы о том, чтобы перейти к индивидуальности, которая в то же самое время являлась бы и всеобщностью.[6] Любое понятие становится «истинным», лишь углубляясь в само себя, и углубляется, лишь охватывая свою противоположность. Следует выйти за пределы того, что можно назвать «простой рефлексией», которая противопоставляет конечное и бесконечное лишь таким образом, что конечное раздваивается, и мы оказываемся перед лицом двух видов конечного, вместо того чтобы подойти к тому единству конечного и бесконечного, которого достиг Гегель.
Таким образом, мы вынуждены заметить, что не следует изображать излишне схематично то движение от тезиса к антитезису и к синтезу, которое совершается в разуме Гегеля. Возможно, аналогии, выявленные, между прочим, впервые Гегелем, между его способом постижения вещей и способом Фихте или даже Шеллинга, в какой‑то степени вводят в заблуждение историка философии.
По правде говоря, два метода смешиваются в его уме, смешиваются и дополняют друг друга. С одной стороны, он движется от одной идеи к идее противоположной, от тезиса к антитезису; он мыслит противоположностями; и здесь улавливается та негативность, которая для него тождественна и идеальному и свободе.
Но с другой стороны, он движется от одного тезиса к тезису более полному, к синтезу. Над одной стадией развития разума он всегда видит другую.
Как раз благодаря смешению этих двух методов, благодаря связи синтеза и антитезиса, как он сам говорит об этом в своем Фрагменте системы, и благодаря применению этого двойственного метода к исследованию запутанных данных истории религии, истории философии, истории цивилизации, логики Гегель и приходит к своей системе.
III. Возвращение к тезису
Но почему следует стремиться к синтезу? Почему, вместо того чтобы удаляться от первой идеи, — либо, так сказать, в глубину, углубляя ее, либо в ширину, отталкиваясь, насколько это возможно, от нее посредством ее отрицания, — следует к ней возвращаться? Здесь выступает на первый план другая гегелевская идея, идея возвращения к исходной точке, но обогащенной всеми промежуточными этапами.
Движение не совершается, как у Ницше, посредством постоянного колебания между противоположностями, или, как у Спинозы, посредством углубления; существует определенный порядок, специфический порядок Гегеля, вынуждающий возвращаться к исходной точке. Разумеется, представление о нем было подготовлено Фихте так же, как и Гемстергейсом и Лафатером, теологами и просветителями, которые в заканчивающемся XVIII веке повторяли мысли Оригена. Разумеется, Шиллер, влияние которого на гегелевское мышление весьма значительно, под совместным воздействием Руссо и Канта, но также и в силу своей собственной рефлексии, создал набросок схемы, весьма близкой той, которая будет схемой Гегеля.[7] Но не менее истинно и то, что он сохранил для Гегеля возможность сделать эти представления более глубокими.
Поскольку это возвращение действительно было возвращением того блудного сына, каким является человеческий разум, то необходимо, чтобы он исчерпал все ресурсы всего многообразия опыта. И это не является для него невозможным; напротив, это и есть его сущность; лишь тогда, когда опыт будет полностью исчерпан, он будет полностью побежден. И в определенном смысле гегелевская идея соединяется в этой точке с идеей мистической в то самое время, когда появляется возможность сравнивать между собой опыт Дон Жуана и опыт Фауста: «Жизнь, — говорит Гегель, — в его теологических сочинениях проходит свой путь, начиная с неразвитого единства и заканчивая единством законченным, проходит через культуру; когда имеется неразвитое единство, то еще существует возможность разделения, еще существует мир, который противоположен этому единству».[8] И Гегель продолжает: «В развитии рефлексия всегда производит достаточное количество противоположностей, которые соединяются в едином порыве вплоть до того, что она противопоставляет самому человеку человека в целом вплоть до того, что любовь упраздняет рефлексию в полном отсутствии объекта и возвышается до того, что противоположно всякому признаку существования какой‑либо чуждой вещи вплоть до того, что жизнь обнаруживает себя лишенной какого‑либо изъяна».

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.
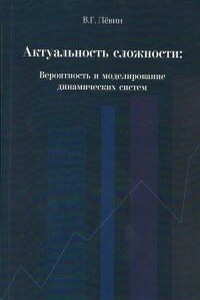
Исследуется проблема сложности в контексте разработки принципов моделирования динамических систем. Применяется авторский метод двойной рефлексии. Дается современная характеристика вероятностных и статистических систем. Определяются общеметодологические основания неодетерминизма. Раскрывается его связь с решением задач общей теории систем. Эксплицируется историко-научный контекст разработки проблемы сложности.
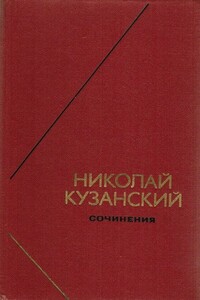
Во второй том Сочинений вошли его главные произведения 1449—1464 гг. «Апология ученого незнания», «О видении бога», «Берилл», «О неином», «Игра в шар», «Охота за мудростью» и др. На почве античной и средневековой традиции здесь развертывается диалектика восхождения к первоначалу, учение о единстве мира, о человеке как микрокосме и о цели жизни.

Артемий Владимирович Магун (р. 1974) — философ и политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, преподает на Факультете свободных искусств и наук СПбГУ. Подборка статей по политологии и социологии с 2003 по 2017 гг.

I. Современный мир можно видеть как мир специалистов. Всё важное в мире делается специалистами; а все неспециалисты заняты на подсобных работах — у этих же самых специалистов. Можно видеть и иначе — как мир владельцев этого мира; это более традиционная точка зрения. Но для понимания мира в аспектах его прогресса владельцев можно оставить за скобками. Как будет показано далее, самые глобальные, самые глубинные потоки мировых тенденций владельцы не направляют. Владельцы их только оседлывают и на них едут. II. Это социально-философское эссе о главном вызове, стоящем перед западной цивилизацией — о потере ее людьми изначальных человеческих качеств и изначальной человеческой целостности, то есть всего того, что позволило эту цивилизацию построить.

Санкт-Петербург - город апостола, город царя, столица империи, колыбель революции... Неколебимо возвысившийся каменный город, но его камни лежат на зыбкой, болотной земле, под которой бездна. Множество теней блуждает по отражённому в вечности Парадизу; без счёта ушедших душ ищут на его камнях свои следы; голоса избранных до сих пор пробиваются и звучат сквозь время. Город, скроенный из фантастических имён и эпох, античных вилл и рассыпающихся трущоб, классической роскоши и постапокалиптических видений.