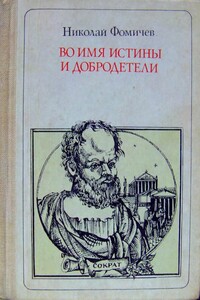Неожиданные люди - [23]
Тут уловил он движение света в стеклах книжного шкафа и, скосив в ту сторону глаза, увидел, как на зеркально-черном фоне высветливается четкий прямоугольник телеэкрана («Значит, дверь ко мне отошла, раз сюда проникло столь широкое отражение», — мельком подумал Ваганов, и не без удовольствия); на экране обозначилась заставка: клюшка с шайбой в смутно различимом словесном кольце, и тотчас заставку как сдернуло, открывши взгляду плоско серевшее ледовое поле, по которому бешено метались чужие и свои хоккеисты, — это хаотичное мелькание темных и светлых фигур издали напоминало броуновское движение («А как я физику любил!» — вдруг с сожалением вспомнил Ваганов), затем в бесшумном надвиге (ни рева болельщиков, ни голоса комментатора слышно не было, — вероятно, звук у телевизора выключили) явились хоккеисты планом покрупнее похожие на Уэллсовых марсиан в своих блистающих шлемах, скафандроподобных костюмах и с клюшками-хоботами в руках.
— Вот это проход! Гол! — послышался за дверью восхищенный голос сына
Ему кто-то отвечал, по-видимому Костя, институтский приятель Олега, но слова доносились неразборчиво.
— За что я хоккей люблю — за борьбу, — продолжал Олег. — Здесь как в жизни: побеждает тот, кто весь выкладывается, как атакующий хоккеист!..
«Тоже мне философ», — улыбнулся снисходительно Ваганов.
— Олег! Ты забываешься! — Кажется, у самого порога прозвучал сердитый шепот жены, и тотчас дверь в комнату осторожно прикрыли, погасив на стеклах шкафа отражение соседствующей жизни и отрезав от нее Ваганова.
Легкая досада охватила его, и захотелось, чтобы дверь оставили открытой, но была такая слабость, что невозможно было языком пошевелить. «Ну, пусть», — вяло подумал Ваганов и вдруг почувствовал себя в окружении мыслей… Эти мысли были странные: они дробились и скакали с предмета на предмет, как во время бессонницы. Только прежде круг его бессонных размышлений все равно был ограничен Делом, а сейчас (как будто круг порвался) мысли разлетались и никакого отношения к деловым заботам не имели. Сперва мелькнула мысль о сыне: «Он мой и вроде не мой… Хотя характером — в меня… Но почему он в историки пошел, а не в строители? И почему так замкнут со мной?.. Какие взгляды рождаются в его незрелой голове?.. Нет, Ваганов, ты не знаешь сына!» — но в эти беглые, беспокойные мысли, нежданно и совсем некстати, вклинилось воспоминание недавнего сна: какие-то невнятные обрывки разговора с Кремневым («А кто это маячил за его спиной? Чья тень мне снилась?» — спросил с недоумением Ваганов и тотчас же услышал, как наяву, кремневский, нетерпимый баритон: «Да как ты смеешь осуждать меня?!»), затем, перебивая отзвук сновидения, как вспышка света, воскресла из подвалов памяти картина: он, тогда еще начальник СУ, входит в просторный, как зал, рабочий кабинет Кремнева и не узнает его за роскошным, резным столом: бледный, потерянный, он явно против воли визирует увольнение уголовного вида парню, поигрывающему перед носом начальника стройки чугунным пресс-папье… И вдруг откуда-то из глубины сознания вырвался холодный, ясный в беспощадности своей вопрос: «Слушай-ка, Андрей, а может быть, тебе конец пришел?» И следом же мелькнула мысль-ответ, спокойная и рассудительная, хотя спокойный тон ответа, чувствовал Ваганов, был укрощающим внезапный страх намордником, и только: «Черта с два! Если бы дела мои были плохи совсем, меня бы оставили в больнице». — «А может быть, тебя для маскировки, для успокоения домой-то привезли?» — с насмешечкой пытала ехидная мыслишка. «Ну и что, если так?» — «А то, что — готов ли ты?» — «К чему готов?» — не хотела понимать ответная мысль. «Покинуть этот бренный мир?» — продолжала вопрошающая. «Глупости! — сердито перебил себя Ваганов. — Мне жить да жить! Мне только сорок пять!..» — «А как ты прожил эти годы?» — неожиданно дуэтом спросили голоса, так хорошо знакомые Ваганову, что перед внутренним взором его, как на портрете, появилось двое: отец, каким он уходил на фронт (сухое, выжженное солнцем лицо крестьянина, не склонного ни к шутке, ни к улыбке), и сам Ваганов: деревенский пионер, с глазами, полными восторга от интереса к жизни. «Как ты прожил годы-то свои?» — повторил, теперь уже один, настойчивый голос отца. Но Ваганов вдруг почувствовал усталость от этого наплыва мельтешащих образов и смежил веки, пытаясь ни о чем не думать…
3
Вдруг показалось, что в глаза ему направили свет. Он ощущался сквозь опущенные веки, и ощущался все сильней, пока Ваганов не увидел сам источник света: распахнутую настежь дверь, в которую светило солнце. Странным было появление наружной двери в комнате, где он лежал сейчас, но еще более странным было то, что дверь в точности похожа на дверь его родной избы: те же отполированные временем косяки, низкая, чуть покосившаяся притолока и широкий, выскобленный добела порог с блестевшими в нем шляпками гвоздей. «Я вижу сон», — отметил про себя Ваганов, и когда в тяжелой раме двери выросла фигура пацана, который, прислонившись к косяку худым плечом, сощурившись, уставился на него с загадочной улыбкой (весь залитый медово-дымчатым потоком солнца, падавшим к порогу четким ромбом), Ваганов это воспринял как должное и только удивился натуральности своих видений: кажется, он даже ощущал запах нагретых солнцем дверных досок и слышал квохтанье кур во дворе…

Выразительность образов, сочный, щедрый юмор — отличают роман о нефтяниках «Твердая порода». Автор знакомит читателя с многонациональной бригадой буровиков. У каждого свой характер, у каждого своя жизнь, но судьба у всех общая — рабочая. Татары и русские, украинцы и армяне, казахи все вместе они и составляют ту «твердую породу», из которой создается рабочий коллектив.

Два одиноких старика — профессор-историк и университетский сторож — пережили зиму 1941-го в обстреливаемой, прифронтовой Москве. Настала весна… чтобы жить дальше, им надо на 42-й километр Казанской железной дороги, на дачу — сажать картошку.

В деревушке близ пограничной станции старуха Юзефова приютила городскую молодую женщину, укрыла от немцев, выдала за свою сноху, ребенка — за внука. Но вот молодуха вернулась после двух недель в гестапо живая и неизувеченная, и у хозяйки возникло тяжелое подозрение…

В лесу встречаются два человека — местный лесник и скромно одетый охотник из города… Один из ранних рассказов Владимира Владко, опубликованный в 1929 году в харьковском журнале «Октябрьские всходы».

«Соленая Падь» — роман о том, как рождалась Советская власть в Сибири, об образовании партизанской республики в тылу Колчака в 1918–1919 гг. В этой эпопее раскрывается сущность народной власти. Высокая идея человечности, народного счастья, которое несет с собой революция, ярко выражена в столкновении партизанского главнокомандующего Мещерякова с Брусенковым. Мещеряков — это жажда жизни, правды на земле, жажда удачи. Брусенковщина — уродливое и трагическое явление, порождение векового зла. Оно основано на неверии в народные массы, на незнании их.«На Иртыше» — повесть, посвященная более поздним годам.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».