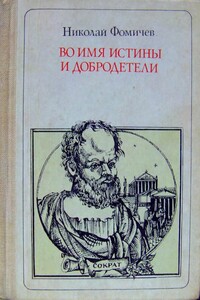Неожиданные люди - [22]
— Все, что имеешь против меня, — сказал Кремнев.
— Воспоминания — это все, что я против тебя имею, — вздохнув, сказал Ваганов.
— Недобрые воспоминания? — с насмешечкой опять спросил Кремнев.
— Да уж доброго в них трудно найти…
— Какая черная неблагодарность! Разве я мало сделал для стройки?
— Мало, много — понятия относительные… А какова цена твоих усилий?..
— Самая обыкновенная — труд и воля людей.
— И еще — невосполнимые утраты.
— Без утрат нет приобретений.
— Я говорю о бессмысленных утратах.
— Это уж мне позволь знать, бессмысленны они или нет.
— Разумеется, ты знаешь, что они бессмысленны.
— Ты имеешь в виду «футбольную трагедию»?
— А смерть Беспалова?
— Ты меня винишь в его смерти?!
— Перестань притворяться… Лучше вспомни ту злосчастную оперативку. Разгон, который ты давал Беспалову, довел его до белого каления. Мы вместе вышли из твоего кабинета, и, когда спустились вниз, он упал и больше не поднялся… А ведь ему не было и сорока, и он был красив и силен…
— Вздор! Я не виновен в его смерти. «Он сгорел» — вот как это называется! Он не выдержал психологических нагрузок. Тебе ли не знать, что на стройке горят, а не работают…
— Можешь утешать себя этой мыслью. Ведь ты до конца своих дней так и не понял, что на стройке можно не «гореть», а по-человечески, без нервотрепки работать…
— Надо полагать, что именно так ты теперь и работаешь?
— Представь себе…
— И, работая без нервотрепки, ты чуть было не заработал инсульт? — с иронией спросил Кремнев и рассмеялся сухим, неприятным смехом.
И, удивляясь своему спокойствию, Ваганов сказал:
— А ведь ты смеешься над самим собой, Герман Павлович. Моя болезнь — последствие усилий, которые пришлось затратить, чтобы избавиться от твоего «нервотрепательного» стиля…
— Задним числом мы все ученые, — раздраженно перебил его Кремнев. — А доведись тебе начать строительство в те, мои, времена, ты начал бы его точно так, как я: нервотрепательно и жестко. Твое лучшее — опять-таки относительно лучшее! — настоящее — это будущее моего хорошего прошлого!
— Отличный афоризм… и очень удобный: им все можно оправдать… Уж не хочешь ли ты убедить меня, что стиль твоего руководства был необходимостью?
— А ты собрался убедить меня в обратном?
— И то, что привело к «футбольной трагедии», — сколько там погибло? — тоже было необходимостью? — спросил Ваганов (неожиданно для самого себя) о том, что тревожило память в бессонные ночи.
И тут Кремнева прорвало.
— Мальчишка! Молокосос! Да кто тебе дал право судить меня?! — гневно, распоясанно кричал Кремнев.
— Права судить у меня, возможно, и нет, — миролюбиво отвечал Ваганов, ничуть не удивившись почему-то вспышке шефа. — Но думать мне никто не запретит… К тому же ты ведь сам хотел, — начал было продолжать Ваганов и на мгновение осекся, заметив странную метаморфозу, происходившую в изножий тахты: откуда-то из-за спины Кремнева вдруг черным пламенем взметнулась к потолку гигантская тень неизвестного человека; холодным страхом пахнуло на Ваганова от этой безмолвно колышущейся тени, и, по инерции договорив: «Ты сам хотел, чтобы я все выложил начистоту», — он ощутил поток мурашек, побежавших по телу…
…Впрочем, страх длился лишь мгновение. Затем видения Кремнева и черной тени за его спиной как будто растворились в полумраке комнаты, исчезли, и тотчас проступили очертания предметов: квадрат окна за кружевами тюля, стеклянный шкаф у левой стенки, правее — письменный стол и кресло в углу; сперва все это он увидел смутно и расплывчато, как сквозь туман, затем — словно он глядел через бинокль, в котором подкрутили нужный фокус, — все стало зримым и удивительно отчетливым (несмотря на полумрак, царивший в комнате), и, вместе с возвращением зрительной реальности, вернулась слуховая: он ясно различал глубокие, готические звуки фуги Баха, плывущие тихонько из приоткрытой двери (кремово-желтая полоска света, проникавшего в дверную щель, отражалась четко на зеркально-черном стекле книжного шкафа). «Я спал… И Кремнев мне приснился», — сказал себе Ваганов успокоенно и с наслаждением отдался слушанию музыки, которую не понимал (оттого, что не имел привычки к ней, а не имел привычки потому, что не хватало времени для этой и других хороших привычек, чтения беллетристики например), но, не умея понимать, он обладал уменьем чувствовать музыку, во всяком случае, ему казалось так…
Густые, тягучие звуки органа, втекая в комнатный полумрак, волнами накатывались на Ваганова, навевая ощущение умиротворенной невесомости, легкого, наркотического транса, рождали в воображении причудливый образ внутренних пространств гигантского собора: единственный свод его, готически-стрельчатый, сверкающий цветными стеклами витражей, был устремлен в небесную высь и дальше — в глубину астральной бесконечности; и это здесь, внутри собора, жила и волновалась, как живая жизнь, музыка органа. И слышалось Ваганову, как мечутся во мраке нефа тяжкие, хриплые вздохи басов, как сшибаются в яростной схватке тугие, зримо объемные волны низко рокочущих звуков, как бьются они океанским прибоем в глухие стены собора и как глубоко-глубоко вверху, под самым сводом, в серебристой дымке астральной зари, поют, ликуют и, сплетаясь в гармоничные звучания, рисуют светлые картины бытия иные, благостные голоса. И на мгновение Ваганов ощутил себя парящим в звуковом пространстве нефа: он словно плавал в невесомости, лежа на спине, медленно и неуклонно возносимый плотными потоками рокочущей музыки к стрельчатому своду, все выше и выше, туда, где в лабиринте благостных созвучий скрываются тайны гармонии… И вдруг все оборвалось. Воображаемый собор как провалился, оставив смутный полумрак после себя. За дверью грубо, металлически щелкнуло — сработал автостоп проигрывателя, и Ваганов без охоты возвратился к самому себе, остро ощущая тишину, в которой стрекотал невидимый будильник. «Какой же я сентиментальный стал», — усмехнулся над собой Ваганов, оценивая только что минувшие грезы, навеянные Бахом, как сентиментальные…

Выразительность образов, сочный, щедрый юмор — отличают роман о нефтяниках «Твердая порода». Автор знакомит читателя с многонациональной бригадой буровиков. У каждого свой характер, у каждого своя жизнь, но судьба у всех общая — рабочая. Татары и русские, украинцы и армяне, казахи все вместе они и составляют ту «твердую породу», из которой создается рабочий коллектив.

Два одиноких старика — профессор-историк и университетский сторож — пережили зиму 1941-го в обстреливаемой, прифронтовой Москве. Настала весна… чтобы жить дальше, им надо на 42-й километр Казанской железной дороги, на дачу — сажать картошку.

В деревушке близ пограничной станции старуха Юзефова приютила городскую молодую женщину, укрыла от немцев, выдала за свою сноху, ребенка — за внука. Но вот молодуха вернулась после двух недель в гестапо живая и неизувеченная, и у хозяйки возникло тяжелое подозрение…

В лесу встречаются два человека — местный лесник и скромно одетый охотник из города… Один из ранних рассказов Владимира Владко, опубликованный в 1929 году в харьковском журнале «Октябрьские всходы».

«Соленая Падь» — роман о том, как рождалась Советская власть в Сибири, об образовании партизанской республики в тылу Колчака в 1918–1919 гг. В этой эпопее раскрывается сущность народной власти. Высокая идея человечности, народного счастья, которое несет с собой революция, ярко выражена в столкновении партизанского главнокомандующего Мещерякова с Брусенковым. Мещеряков — это жажда жизни, правды на земле, жажда удачи. Брусенковщина — уродливое и трагическое явление, порождение векового зла. Оно основано на неверии в народные массы, на незнании их.«На Иртыше» — повесть, посвященная более поздним годам.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».