Неоконченный портрет. Книга 1 - [44]
И тогда реальное, зримое, важное — глубоко мирный характер отношений с Россией — отойдет на задний план, будет заслонен многозначительной «пророческой болтовней».
Время показало, что признание Советской России не было ошибкой. Непоправимым просчетом была бы политика прежней неприязни к этой стране.
Мысли о России пришли сейчас в голову Рузвельту не случайно и не внезапно. Он возвращался к ним почти каждый день, размышляя о послевоенном мире и об Организации Объединенных Наций. Особенно напряженно он думал о России в связи с последними письмами Сталина.
Рузвельт плохо спал последнюю ночь, но утаил это от своего врача во время утреннего осмотра...
Шутил ли президент, когда открывал Люси тайну своих ночных «путешествий мысли»?
Но если и шутил, то в эту последнюю ночь мысль о том, что ему необходимо подвести итоги сделанного за полтора десятилетия — и в Олбани и в Белом доме, — эта мысль действительно владела Рузвельтом.
...Внезапно видения прошлого исчезли. Перед глазами Рузвельта снова была Шуматова. Она сосредоточенно смешивала краски на откидных крышках этюдника и на фарфоровой пластинке. Потом проверяла результат на маленькой дощечке.
— Я никак не могу справиться с вашими глазами, господин президент, — сказала Шуматова, видя, что Рузвельт поднял голову я смотрит на нее. — Вы знаете, — продолжала она, — на свете существует несколько типов глаз. Славянские, англо-саксонские, романские, восточные... У вас типичные глаза англосакса.
— Несмотря на большую примесь голландской крови? — с усмешкой спросил Рузвельт.
— И тем не менее. А может быть, они стали такими потому, что вы со дня рождения привыкли смотреть на все по-американски? — сострила Шуматова. — У меня не получаются ваши глаза, сэр, — уже серьезно сказала она, опуская руку с зажатой в ней кистью. — Правда, у нас еще будет время... Все же мне кажется, что выражение ваших глаз слишком часто меняется, как будто вы только что наблюдали свадьбу, а затем — похороны. Или какой-то дух, не знаю — злой или добрый, время от времени крадет у вас душу, оставляя в неприкосновенности земную оболочку. Тогда мне кажется, что все как будто здесь, а души нет. А я хочу рисовать душу!.. Вот опять! Ну, пожалуйста, господин президент, не отворачивайтесь, что вы там такое видите в окне? Посмотрите на меня.
Президент послушно посмотрел на нее и подумал: «А ответ Сталину все еще не отправлен. И, в сущности, даже еще не написан. Ну, как, как развеять недоверие Сталина? Как сделать из России союзника и на послевоенные времена? Ведь недоверие, когда закладываются основы нового мира, — очень опасная вещь. Сталин, конечно же, думает, будто история в Берне — нечто большее, чем даже сепаратные переговоры о мире. Он видит в ней символ нового отношения Запада к России, после того как война фактически выиграна. Как убедить его, что, пока я жив, Америка никогда не сделает России никакой подлости, что отношение к этой стране не временный и не конъюнктурный вопрос? Как напомнить Сталину о первой половине тридцатых годов, когда у большевистской России в Америке было не меньше врагов, чем теперь друзей, восхищающихся ее военными победами?..»
…Вдруг Рузвельту показалось, что его кто-то позвал:
— Мистер президент!
Нет, теперь это не был голос Шуматовой…
...Рузвельт ехал в своей коляске по коридору, ведущему в Овальный кабинет. Время было не очень позднее, и он решил еще поработать. Только что закончился обед, на котором вся семья была в сборе; как всегда, присутствовал и кто-либо из «мозгового треста» — если задерживался до этой поры в Белом доме...
Услышав, что его кто-то позвал, Рузвельт обернулся и увидел Рексфорда Тагуэлла, профессора Колумбийского университета, одного из главных своих советников.
Рузвельт любил этого человека. Моложавый, с открытым мужественным лицом, Тагуэлл всегда был элегантно одет — в Белом доме шутили, что он носил голубые рубашки под цвет своих васильковых глаз. Тагуэлл слыл остроумным человеком и часто поддразнивал своих коллег по Белому дому, повторяя, что «Америку надо переделать сверху донизу».
— В чем дело, Рекс? — с недоумением спросил Рузвельт. Ведь они совсем недавно попрощались.
— Трехминутный разговор, босс, — негромко ответил Тагуэлл.
— Говори.
— Если разрешите, я провожу вас.
Тем не менее до самой двери, ведущей в Овальный кабинет, Тагуэлл не произнес ни слова, лишь слегка подталкивая спинку коляски.
У двери в кабинет президента ждал камердинер, чтобы помочь ему перебраться из коляски за письменный стол, но Рузвельт сделал это без его помощи. Приттиман вышел. Тагуэлл остался в кабинете.
— Послушай, Рекс, — сказал Рузвельт, — не знаю, что ты собираешься мне сказать, но кое-что скажу тебе я. Перестань прославлять на всех перекрестках национальное планирование экономики. Это дает лишнее оружие нашим врагам.
— Разве вы считаете, — обиженно возразил Тагуэлл, — что от национального планирования надо отказаться?
— Наоборот! Я полагаю, что в пределах ограничений, определяемых нашим социальным строем, оно непременно должно осуществляться.
— Так почему же?.. — начал было Тагуэлл, но президент не дал ему договорить.

Пятая книга романа-эпопеи «Блокада», охватывающая период с конца ноября 1941 года по январь 1943 года, рассказывает о создании Ладожской ледовой Дороги жизни, о беспримерном героизме и мужестве ленинградцев, отстоявших свой город, о прорыве блокады зимой 1943 года.

Первые две книги романа «Блокада», посвященного подвигу советских людей в Великой Отечественной войне, повествуют о событиях, предшествовавших началу войны, и о первых месяцах героического сопротивления на подступах к Ленинграду.
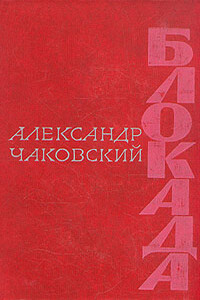
Третья и четвертая книги романа «Блокада» рассказывают о наиболее напряженном периоде в войне — осени 1941 года, когда враг блокировал город Ленина и стоял на подступах к Москве. Героическую защиту Ленинграда писатель связывает с борьбой всего советского народа, руководимого Коммунистической партией, против зловещих гитлеровских полчищ.

Первые две книги романа «Блокада», посвященного подвигу советских людей в Великой Отечественной войне, повествуют о событиях, предшествовавших началу войны, и о первых месяцах героического сопротивления на подступах к Ленинграду.

А. Чаковский — мастер динамичного сюжета. Герой повести летчик Владимир Завьялов, переживший тяжелую драму в годы культа личности, несправедливо уволенный из авиации, случайно узнает, что его любимая — Ольга Миронова — жива. Поиски Ольги и стали сюжетом, повести. Пользуясь этим приемом, автор вводит своего героя в разные сферы нашей жизни — это помогает полнее показать советское общество в период больших, перемен после XX съезда партии.

Третья и четвертая книги романа «Блокада» рассказывают о наиболее напряженном периоде в войне — осени 1941 года, когда враг блокировал город Ленина и стоял на подступах к Москве. Героическую защиту Ленинграда писатель связывает с борьбой всего советского народа, руководимого Коммунистической партией, против зловещих гитлеровских полчищ.
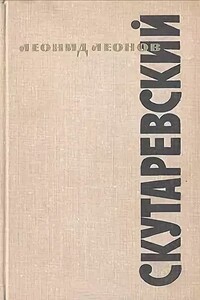
Известный роман выдающегося советского писателя Героя Социалистического Труда Леонида Максимовича Леонова «Скутаревский» проникнут драматизмом классовых столкновений, происходивших в нашей стране в конце 20-х — начале 30-х годов. Основа сюжета — идейное размежевание в среде старых ученых. Главный герой романа — профессор Скутаревский, энтузиаст науки, — ценой нелегких испытаний и личных потерь с честью выходит из сложного социально-психологического конфликта.
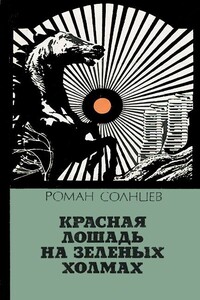
Герой повести Алмаз Шагидуллин приезжает из деревни на гигантскую стройку Каваз. О верности делу, которому отдают все силы Шагидуллин и его товарищи, о вхождении молодого человека в самостоятельную жизнь — вот о чем повествует в своем новом произведении красноярский поэт и прозаик Роман Солнцев.

Книга посвящена жизни и многолетней деятельности Почетного академика, дважды Героя Социалистического Труда Т.С.Мальцева. Богатая событиями биография выдающегося советского земледельца, огромный багаж теоретических и практических знаний, накопленных за долгие годы жизни, высокая морально-нравственная позиция и богатый духовный мир снискали всенародное глубокое уважение к этому замечательному человеку и большому труженику. В повести использованы многочисленные ранее не публиковавшиеся сведения и документы.

Владимир Поляков — известный автор сатирических комедий, комедийных фильмов и пьес для театров, автор многих спектаклей Театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Им написано множество юмористических и сатирических рассказов и фельетонов, вышедших в его книгах «День открытых сердец», «Я иду на свидание», «Семь этажей без лифта» и др. Для его рассказов характерно сочетание юмора, сатиры и лирики.Новая книга «Моя сто девяностая школа» не совсем обычна для Полякова: в ней лирико-юмористические рассказы переплетаются с воспоминаниями детства, героями рассказов являются его товарищи по школьной скамье, а местом действия — сто девяностая школа, ныне сорок седьмая школа Ленинграда.Книга изобилует веселыми ситуациями, достоверными приметами быстротекущего, изменчивого времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Роман Александра Чаковского посвящен жизни и деятельности тридцать второго президента США Франклина Д. Рузвельта. Роман создан на основе документальных материалов.
