Необъявленная война - [2]
Сквозь полувековые напластования, сквозь гул времени, череду сотрясавших землю событий, сменяющих друг друга картин мне трудно разглядеть офицерика, задумчиво созерцающего белую надпись на некогда зеленых досках забора. Трудно понять самого себя, силившегося понять эту надпись.
В отличие от головоломных предвоенных лет война даровала, казалось бы, вожделенную ясность, и вот тебе, успевшему привыкнуть к пленительной прямоте, суют под нос лозунг, не поддающийся легкой расшифровке.
Если быть дотошно достоверным, то придется вспомнить: власовская пропаганда (с весны 1943 года гитлеровское командование передало свои русские типографии людям Власова) засыпала нас листовками, где твердили о губительной коллективизации и об арестах тридцать седьмого года. Но при желании от этого удавалось отмахнуться — власовцы открыто выступали на стороне уже побеждаемого противника, и это обесценивало их доводы. Однако, если опять-таки стремиться к предельной достоверности, придется вспомнить эпизод, случившийся в самом начале летнего наступления сорок четвертого года. На рассвете друг лейтенанта притащил захваченного в плен гитлеровского солдата. Солдат был ранен, кровь текла по вороту его кителя, по спине лейтенантова друга.
Истекавший кровью гитлеровец был русским добровольцем. Русская фамилия, выведенная латинскими буквами, значилась в солдатской книжке. Но фамилия — не довод. Надо, чтобы солдат назвался, заговорил, дал нужные сведения. А он стонал, стиснув зубы. Росистая трава под ним быстро покраснела от крови. Зажмурив единственный глаз (второй вытек), он мычал, не разжимая губ. Но есть болевой порог, за которым любой начинает говорить. Друг упрямо подводил пленного к этому порогу. И подвел. Раздалась бессвязная, хриплая речь. Русская речь, перемежаемая яростной руганью.
Да, он по доброй воле взял сторону фюрера, попросился в вермахт. Мстил за отца, расстрелянного за три года до войны.
Разговор с другом состоялся вечером, когда он уже пришел в себя.
Пленный, прежде чем его скрутили разведчики, уложил двух наших и троих ранил. Зверь, чистый зверь. Видел, что захватят, и все равно бился отчаянно. Простой немец редко когда так ведет себя в безнадежном положении. Коли не простой, коли не немец, тем более надо разговорить.
- То-то ты ввинчивал ему в живот ствол своего парабеллума...
- Я бы его насквозь просверлил.
- Но ты соображаешь, почему он стал изменником?
Мы сидели вдвоем под толщенным разлапистым буком и курили. Он козью ножку, я трубку, набитую самосадом.
Тридцать седьмой, рассуждал он, не оправдание измены. У нас столько пострадало, что у каждого второго найдется причина сводить счеты с Советской властью. Он и сам хлебнул, их семью не миновала чаша сия, а отец, прихватив с собой его, только что кончившего школу, скрылся из поселка, полгода они где-то кочевали, прежде чем вернулись домой. В институт так и не поступил.
Он говорил спокойно и твердо. С незамутненным сознанием собственной правоты. С уверенностью: в делах тридцать седьмого после войны разберутся. Не подозревая, что его, многократно раненного, награжденного едва не всеми боевыми орденами, после войны ждет ссылка, спецпоселение. Как представителя одного из народов-изменников...
Слова, выведенные белой краской на некогда зеленом заборе, считали победу Советской Армии свершившимся фактом, хотя впереди маячили Карпаты, и у нас, признаться, не было уверенности, будто Гитлеру уже свернули голову. Он еще свободно ею вертел, властно командовал своими войсками, не склонными к безоглядному драпу. Но вряд ли кто-нибудь среди нас сомневался: песенка его спета. Первая часть призыва, как говорится, принципиальных возражений не вызывала. Но вторая, где фигурировала не «голова», а «башка» товарища Сталина, которую следовало свернуть...
После войны — друг прав — воцарится полная справедливость. Разгром Гитлера убедит Сталина отменить колхозный строй. Гитлер такие надежды не оправдал: на оккупированных территориях немцы сберегали колхозы, так им удобнее было хозяйничать.
Люди, сочинившие лозунг, подобно нам, относили Гитлера к своим врагам. Его — и Сталина. Какому же Богу они молятся?
Стоит ли, однако, чьим-либо давним суждениям сообщать расширительный смысл? По-разному думали люди, проходя через войну. Первой послевоенной зимой лейтенант (теперь уже капитан), служивший в западноукраинском городе Станиславе, услышал однажды от другого капитана — лет на десять старше его:
- Лишь наивный человек, чтобы не сказать набитый дурак, не понимает: неизбежен новый тридцать седьмой...
Покуда ограничусь этой цитатой. О послевоенном Станиславе, зимой слабо припорошенном снегом, летом — буйно зеленом, разговор впереди.
Тут свершатся события, небезотносительные к надписи на похилившемся заборе. И к монологу капитана из штаба 38-й армии.
Но ни о событиях этих, ни о монологе старший лейтенант, естественно, еще и не подозревает. Он пытается постичь смысл девиза, выведенного белой краской. Сдвинул на лоб пилотку, задумчиво чешет в давно не стриженном затылке.
В этой позе и застает его друг, имевший обыкновение со своими разведчиками, щеголявшими в тяжелых фрицевских сапогах с короткими голенищами, появляться в самое неурочное время. Как всегда, друг спешил и не был расположен к долгим разговорам. Проследив за лейтенантовым взглядом, он скосился на заборную надпись.

«…В нем мирно уживались яркая, брызжущая, всесторонняя талантливость с поразительной, удивляющей некультурностью. Когда я говорю талантливость, я подразумеваю не какие-то определенные способности в какой-то определенной области — я говорю о другом таланте, о таланте жить. Есть и такой, и именно им обладал Джулиано».

«Очевидно, это была очень забавная сцена: сидят двое в крохотной землянке батальонного НП, в двух шагах от немцев (в эту ночь Лёшка дежурил не на командном, как обычно, а на наблюдательном пункте), курят махорку и разговаривают о матадорах, бандерильеро, верониках и реболерах, о которых один ничего не знал, а другой хотя тоже немногим больше знал, но кое-что читал…».

Роман армянского писателя Рачия Кочара «Дети большого дома» посвящен подвигу советских людей в годы Великой Отечественной войны. «Дети большого дома» — это книга о судьбах многих и многих людей, оказавшихся на дорогах войны. В непрерывном потоке военных событий писатель пристально всматривается в человека, его глазами видит, с его позиций оценивает пройденный страной и народом путь. Кочар, писатель-фронтовик, создал достоверные по своей художественной силе образы советских воинов — рядовых бойцов, офицеров, политработников.
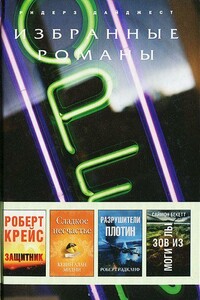
База Королевских ВВС в Скэмптоне, Линкольншир, май 1943 года.Подполковник авиации Гай Гибсон и его храбрые товарищи из только что сформированной 617-й эскадрильи получают задание уничтожить важнейшую цель, используя прыгающую бомбу, изобретенную инженером Барнсом Уоллисом. Подготовка техники и летного состава идет круглосуточно, сомневающихся много, в успех верят немногие… Захватывающее, красочное повествование, основанное на исторических фактах, сплетаясь с вымыслом, вдыхает новую жизнь в летопись о подвиге летчиков и вскрывает извечный драматизм человеческих взаимоотношений.Сокращенная версия от «Ридерз Дайджест».

В сборнике «Год 1944-й. Зарницы победного салюта» рассказывается об одной из героических страниц Великой Отечественной войны — освобождении западноукраинских областей от гитлеровских захватчиков в 1944 году. Воспоминания участников боев, очерки писателей и журналистов, документы повествуют о ратной доблести бойцов, командиров, политработников войск 1, 2, 4-го Украинских и 1-го Белорусского фронтов в наступательных операциях, в результате которых завершилось полное изгнание фашистских оккупантов из пределов советской Украины.Материалы книги повествуют о неразрывном единстве армии и народа, нерушимой братской дружбе воинов разных национальностей, их беззаветной преданности советской родине.
