Необъективность - [61]
— Вставайте, через полчаса уже кассу откроют. Простыни мне принесите в дежурку. — Чтобы, наверное, было светлее, не закрыв дверь, она зашаркала по коридору. Сев, он боролся с собой, и лишь теперь разглядел ту другую кровать — на ней уже было пусто. Этот сосед, бывший в номере ночью, был как сознанье потерянных жизней — нёс все фантомные боли. Но, правда, как до конца прожить память…
За окном чуть посветлело. Большая печь в углу небольшой комнатушки подпирала собой потолок. На кроватях цвели рисунком матрацы, комната стала пустой, одинокой. В предутренней тишине еле слышно шумели у окон уже облетавшие клёны. Он поднимался на холм над тёмной спящей деревней — он её и не увидит вне ночи. Маленький аэропорт наверху был почти что запределен. Где-то вдали, распахнувшись во всю уходящую ночь, замерли в инее сухие поля, и потухали последние звёзды. Над узкой и еще слабой оранжевой полосой небо было сиреневым, а выше — пепельно-синим. Всё стало, пусть ещё серым, но чётким.
8. Комната
Это было в начале, давно, когда мне больше года пришлось прожить в одном городе, в общежитии. Воспоминание о том времени и о комнате, где я жил, до сих пор, со мной — в виде смутной загадки. Собственно, это не воспоминание — помнить можно, то, что определённо, а это — всё, связанное с тем ощущением, вообще не бывает понятным. Обычное общежитие, обычная комната — почему же она по сей день беспокоит…. Да, правда, тот год был не лучшим — в то время, подобно взрыву, распалось важнейшее в жизни, кроме этого за тот период я три раза сменил как род, так и место работы, по разным причинам лежал в двух больницах. Возможно, что этот список звучит, как анекдот, но ничего из него не было несерьёзным. События шли, как воздушные волны, и я перестал удивляться. Меня рвали планы, конфликты с людьми, отчаяние, просто усталость. И эта комната — всё это время она была рядом, и вот те события просто поблёкли, а её шорох всё давит. В эту комнату я добирался в полночь усталым, или, наоборот — проводил подряд целые дни, и, между ними, опять-таки ночи. Ночи те были особая штука — в непрочном, но неподатливом сне, или совсем без него — в похожем на сон возбуждении. Упавшая на стену тень, лампа для чтения на спинке кровати, гул в голове и вкус несчитанных сигарет, тишина, вздохи спящего рядом, усталость, обманчиво-плотные окна. Часто я засыпал уже в кисловатом рассвете. В те два периода, когда я нигде не работал, днём в комнате было сумрачно — тогда в этом городе не было солнца — ни голубизны, и ни мчащихся облаков, только низкая блёклая серость. Общежитие было на самой окраине, в новом квартале, и из окна, кроме того заменителя неба, было видно желтоватое поле. Стены в комнате были окрашены бледно-зелёным, но окно принимало лишь этот холодный пейзаж, и цвет стен задыхался, тоже сделался серым. Комната была длинной, и в дальнем конце её, около двери, жили в сумраке странные тени. Вдоль стен стояли две наши кровати, между ними — широкий проход, у окна — симметрично, две тумбы, у двери — обшарпанный шкаф и протекающий рукомойник. За неимением тапок мы с соседом ходили в ботинках, и пол был затоптан. В особо сильные холода, когда с поля дул ветер, приходилось ходить даже в куртке, но, всё равно, стыли нос, уши, руки.
Соседом моим был якут, с маленькими глазами на широком землистом лице, ему было лет сорок пять, работал он в обществе слепых, где-то на сборке. У него были очень толстые очки со сложными линзами. Я как-то раз взял их в руки — кроме голубоватых стекол, они были засалены, жирны, как и его черные волосы. Утром, возле семи, он вставал, бренча синим подойником, умывался и, если он не спешил, то курил, изредка кашлял и одевался. Он заправлял постель и уходил, не зажигая в комнате света, но я всегда просыпался от звуков, укрытый утренней полутьмой, наблюдал, ожидая, когда он уйдёт, и, меряя время по его шевеленьям. Когда ж, наконец, после топота ног и, опять сотрясания пола, на мгновение он открывал дверь, на пол, возле меня, как плакат, падал свет, вошедший мимо него из коридора. Затем хлопала дверь, и я вновь уходил в полусон, в нежелание делать и думать. День в городе выматывал душу и силы, в комнате — нервы, и, так или иначе, опять близился вечер. Если я был в кино, на работе, в гостях — всё это когда-то кончалось, и вот я снова на улице под дождём: лица, свет окон и фонарей, и — эта комната, мне приходилось в неё возвращаться. Было темно или только темнело…, чаще он приходил раньше меня, но иногда бывал первым и я — у себя на кровати читал, писал сумасшедшие письма, пытался уснуть… — он входил, вешал своё пальто в шкаф, топал к кровати и ставил под нею ботинки. Сколько я помню его, одет он был однообразно — одни и те серые брюки, один и тот серый пуловер…, он сидел на кровати, курил и моргал, глядя перед собою.
У него были две вещи, не принадлежавшие гардеробу: новая модная лампа на тумбочке возле кровати и, там же приёмник «спидола». И вот — действие развивается дальше — около половины восьмого он раздевался, вешал одежду на спинку кровати и, не взирая на то, что под потолком в жёлтом газетном кульке горел рыжий свет, включал свою лампу. Она не светила ему, она светила мне прямо в лицо (не как он, я лежал головой от окна), и это не предумышленно — ведь у него была лампа. Он ложился, в половине восьмого, одевал вновь очки, снятые при раздевании, и расправлял у подбородка края одеяла. Приёмник был рядом, он включал и его и, прикрыв под очками глаза, лежал, может быть даже смотрел в потолок — я не знаю. Изредка он сопел или кашлял, но понять спит он или нет, слушает ли, что поёт, говорит или играет транзистор — не представлялось возможным. Мы давно с ним не говорили, эти попытки изжили себя. Приёмник всегда был настроен лишь на «Маяк» — каждые полчаса информационные сообщения, всегда один уровень громкости, тембра, и ничего, только это, и голова в жутких очках, торчащая над одеялом — ни слов, ничего, только это, глухое окно и серо-мутно-зелёные стены. Он никогда ничего не читал и не делал, иногда подносил к глазу часы и, по пять-десять минут, держал их — смотрел или слушал. И так было все вечера, кроме того, что делал я, здесь уже больше ни что не случалось. Ну и конец — около десяти он, сняв очки, выключал — и приёмник, и лампу, а по ночам порой слабо храпел, и в этих звуках мне слышались трески эфира. Впрочем, нет, это тоже не всё — были субботы и воскресенья, когда он днями был дома — также лежал, да, включив свой приёмник и подтянув к голове одеяло, с тем лишь отличием от вечеров, что, вместо слабого света из-под газеты вверху и его лампы из кинодопросов, свет шёл из окна — мутный серо-молочный. Ну и главная эксцентричность, которой он отмечал выходной…, столовая была в этом же здании, под нами — два раза в день он вставал, тщательно заправлял всё — и покрывало, и, надев пуловер, причесавшись, перед тем как уйти, минут на пять вставал у окна и, чем бы я ни занимался, тусклым голосом сообщал — идёт снег…, ветер…, сыро…. Не всегда в выходной я был там среди дня, и в тех случаях, как и сейчас, меня интересовало — сообщает ли он, страж погоды, свои наблюдения тогда, когда в комнате пусто? С тех пор прошло много лет; когда я впервые вошёл в эту комнату, он жил там, живёт, может быть, и теперь. Что там есть, в этом — боюсь, я уже понимаю.

ББК 84Р7 Б 88 Художник Ю.Боровицкий Оформление А.Катцов Анатолий Николаевич БУЗУЛУКСКИЙ Время сержанта Николаева: повести, рассказы. — СПб.: Изд-во «Белл», 1994. — 224 с. «Время сержанта Николаева» — книга молодого петербургского автора А. Бузулукского. Название символическое, в чем легко убедиться. В центре повестей и рассказов, представленных в сборнике, — наше Время, со всеми закономерными странностями, плавное и порывистое, мучительное и смешное. ISBN 5-85474-022-2 © А.Бузулукский, 1994. © Ю.Боровицкий, А.Катцов (оформление), 1994.

Карл Штерн живет в Берлине, ему четырнадцать лет, он хорошо учится, но больше всего любит рисовать и мечтает стать художником-иллюстратором. В последний день учебного года на Карла нападают члены банды «Волчья стая», убежденные нацисты из его школы. На дворе 1934 год. Гитлер уже у власти, и то, что Карл – еврей, теперь становится проблемой. В тот же день на вернисаже в галерее отца Карл встречает Макса Шмелинга, живую легенду бокса, «идеального арийца». Макс предлагает Карлу брать у него уроки бокса…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
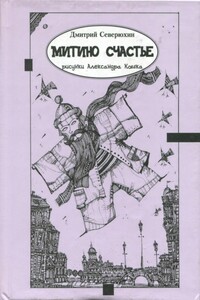
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
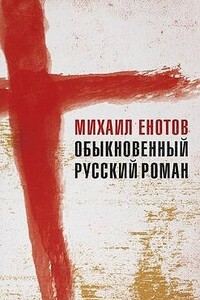
Роман Михаила Енотова — это одновременно триллер и эссе, попытка молодого человека найти место в современной истории. Главный герой — обычный современный интеллигент, который работает сценаристом, читает лекции о кино и нещадно тренируется, выковывая из себя воина. В церкви он заводит интересное знакомство и вскоре становится членом опричного братства.
