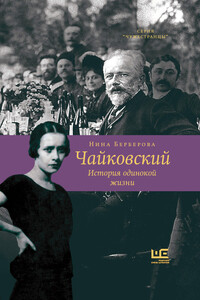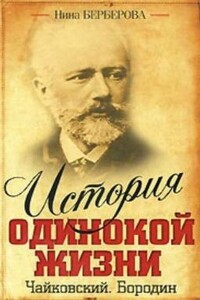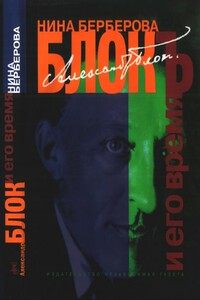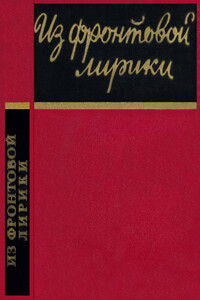I
Двадцатый век, двадцатый год,
Пожары, казни, недород, —
На побережье старой Сены
Я всё забыла. Я живу,
Не вспоминая страшной смены,
Теней ушедших не зову.
Земля, старинная вертушка,
Впервые здесь предстала мне
Не как набитая теплушка,
И не как отчий дом в огне.
Пусть дым покинутых селений,
Отчизны дым, без сожалений
Минует наконец меня:
Довольно дыма и огня.
На берегах зеленой Сены
Привольно ворковать ветрам,
На берегах зеленой Сены
И жизнь, и смерть готовы нам.
И над кладбищем и над градом
Один простор — не выпьешь взглядом.
О, в Елисейские поля
Преображенная земля!
Здесь ходим мы. Хромает нищий,
Красотка кутает плеча,
Осматривает вор жилище,
Засов и ставень богача.
И сам богач, но он не ходит,
Он проезжает мимо нас,
И на прохожего наводит
Спокойный, застекленный глаз.
Здесь ходим мы. И каждый вечер
От этих шумных площадей
Душа летит. Не надо ей,
Стремящейся к высокой встрече,
Ни темноты, ни тишины:
Мне в шуме ночи снятся сны,
Мне в блеске ночи снится вечность.
Двадцатый век, двадцатый год
Не снятся мне с тех пор, как тот
Мне сон приснился незабвенный,
Тот непорочный, сокровенный,
Он, как виденье, был мне дан
Сквозь жизни правду и обман.
С тех пор в часы мои ночные
Не вижу я былых годов
И тех сентиментальных снов,
Он заменил мне сны былые.
И снилась мне всего лишь раз
Дождьми размытая дорога,
И колеи, в закатный час
В пыли лежащие убого,
И ржи глубокая волна,
И над полями тишина…
То было раз. Все, что мелькало,
Теперь из памяти ушло.
А было, кажется, немало:
Ведь спутников с ума свело.
Они на чердаках, в подвалах,
В германских рощах, в луврских залах
Полны бесплодною тоской.
Не то произошло со мной.
В тот год весна не приходила,
В апреле трепетал мороз,
А лето фейерверк пустило
Над городом ракет и гроз,
И в небеса вонзилась прямо
На башне Эйфеля реклама.
В тот год мосты дрожали от
Зевак, — на выставку народ
Глазел, и били барабаны,
И семицветные фонтаны
Неслышно прядали во тьму,
И гасли там по одному.
В тот год, я помню, карусели
Визжали, музыкой звеня,
И кряду, верно, две недели
Играл оркестр средь бела дня
На площадях. В тот год базаров,
И суеты, и зноя, в тот
Веселый, безобразный год,
Под свист “Белотт”, под гомон баров,
Мне снился небывалый сон,
Был тяжек и прерывист он.
Я помню первый день творенья,
Как люди помнят прежних лет
Россию, и ее значенье —
Поместье, титул, эполет.
Передо мною сновиденья
И возникают, и дрожат,
Дневной я замыкаю взгляд
И вижу первый день творенья.
И родины я не хочу,
И не хочу я пробужденья:
Я у царя царей гощу,
Я снова дух, да, снова тень я,
Я вижу первый день творенья,
Первоначальную зарю
Вселенскую….
Я говорю:
Немного надо в этой жизни
Бродяге, страннику и мне:
Мы не скучаем по отчизне,
И по кастрюле на огне.
Двадцатый век, двадцатый год
Из памяти ушли. И вот
Эдема праздник незабвенный
Явился мне в полночный час
Напоминаньем о вселенной.
Я во второй видала раз
Ту левантинскую долину,
Тот первый благодатный сад,
Я вновь слыхала, как Евфрат
Шумит…
О, жизни половина!
О, сновидения мои,
Вы слаще дружбы и любви.
2
Мать-бездна, ты разверзла лоно,
И Бог сказал: “Да будет свет!”
И в пустоте грядущих лет
Бог отразился благосклонно.
И он увидел, что досуг
Его велик, простертых рук
Бледны и одиноки тени,
В пару лежат его колени,
И голова его в пару,
И он воскликнул на ветру:
“Здесь будет мир. Мое творенье.
Земля и небо будут здесь.
Хочу я тверди дать вращенье,
Хочу я небеса вознесть”.
И он сказал: “Отхлыньте, воды,
Движенья смысл вам будет дан:
Закон незыблемой свободы,
Прилив, отлив и ураган.
А ты, земля, листвой зеленой,
И мхом, и злаком облекись,
И каждый ствол новорожденный
Плодами в срок обременись.
И в срок цвети, роняя семя, —
Всему даю пространство, время”.
И Бог сказал в четвертый раз:
“Над духом уст моих высоким,
Над воинством небес стооким,
Зажгитесь, звезды, в этот час,
Вонзитесь, первые кометы,
В земли необозримый мрак,
Зажгитесь, луны и планеты,
Явись, о солнца жаркий зрак, —
Да будет день!” И стало так.
“Да будет ночь!” И ночь настала,
И солнце запад свой узнало.
И снова был вселенский день,
И Бог понесся над землею
И, наблюдая свет и тень,
Воскликнул он: “Душой живою
Земной да оживится прах!”
И вылез червь во славу Бога,
И птица порхнула в кустах,
И темною лесной дорогой
Запрядал волк, а подо мхом
Волчица в теплом мраке лога
Волчат вскормила молоком.
И день шестой к концу клонился,
И Бог залюбовался сам
На мир, что вдруг зашевелился,
Покорный божеским словам.
Он поднимает первый палец: