Нельзя забывать… - [8]
Однажды, в начале марта, кто-то постучал в ставню. Вошла Нюра, вся в снегу, худая-прехудая, со Светкой на руках. Светку положили на кровать и перепеленали.
— Мама, — сказала Нюра, — Кирилл ушел на фронт. Я решила до конца войны жить у вас. Господи! — воскликнула она. — Я же ведь не одна… Совсем забыла.
Не одеваясь, она выбежала на улицу и привела старика в широченном тулупе и с кнутом.
— Вот — Степан Иннокентьевич… Наш возчик.
— Степан Иннокентьевич уже были у нас, — вгляделась мама в старика. Вспомнил его и я. Он и сейчас все время улыбался и заискивающе говорил:
— Не извольте беспокоиться…
Степан Иннокентьевич принес со двора замерзший фикус и узел с какими-то вещами.
— Вот и все, что мы нажили, — засмеялась Нюра.
— Какая важность, — махнула рукой мама.
— И правда, — кивнула Нюра, — не в этом счастье.
— А граммофон? — спросил я.
— Граммофон? — Нюра помедлила, наморщила лоб. — Не помню, где он…
— Я дарил тебе Рыжика, — напомнил я.
— Рыжик остался в Алмазове, — отвечала она, — он там единственный кот на всю школу. Будет охотиться на мышей.
Нюра погладила меня по плечу, и я понял, что спрашивать больше не надо.
Она рассказала, что Кирилл Петрович сразу после нашего посещения был мобилизован. Все книги Нюра отдала в школьную библиотеку, а домой привезла только фикус, Светланкины пеленки и незаконченную рукопись Кирилла Петровича.
Возчика напоили чаем и хотели оставить ночевать:
— Куда на ночь глядя, да в такую метель?
Но старик настоял на своем:
— Не извольте беспокоиться… Лошади сами дорогу знают…
И уехал.
Так сестра стала опять жить у нас.
Весной сорок второго года Гриша ушел из школы и поступил работать на фабрику, сперва учеником, а потом фрезеровщиком. А летом получил повестку. Когда он увидел ее, то схватил меня под мышки и крутанул вокруг себя. Я попросил:
— Еще!
Он крутанул еще раз, я задел ногами спинку стула. Стул опрокинулся. На шум пришла мама.
— Что это вы развоевались?
— Вот! — показал Гриша повестку.
Мама стала очень грустная и весь вечер молчала. И мне и Нюре тоже жалко было расставаться с Гришей. Я спросил его:
— Тебе дадут автомат?
— А как же!
Вот тогда я понял, что Гриша теперь совсем взрослый человек. Я напомнил ему:
— Ты обещал мне сделать самокат.
— Вернусь — сделаю.
Посмотрел на меня и похлопал по плечу:
— Ну чего, Федул, губы надул? Немцев надо прогнать. Никто за нас этого не сделает.
На другой день мама, я и Нюра со Светкой пошли провожать Гришу. Полдня сидели на затоптанной, повядшей траве против кирпичного здания военкомата. Здесь же почему-то оказалась девчонка из соседнего дома — Лена Киселева. Она села вместе с нами, и Гриша держал ее за руку.
Потом с крыльца военкомата сошел военный, приказал мобилизованным построиться по росту в один ряд. В руках он держал список и выкрикивал фамилии и имена. Когда он назвал: «Агеев Григорий Захарович!» — Гриша звонко откликнулся:
— Я…
Ох как было завидно. Как хотелось, чтоб крикнули: «Агеев Константин Захарович!»
Потом мобилизованных построили в колонну по четыре и куда-то повели. Мы сперва остались на месте, затем догнали колонну и пошли в толпе женщин. Так дошли до Красных казарм на краю города, и на прощание Гриша помахал нам рукой. С утра было холодно, и потому он надел свое черное драповое пальто, но к обеду стало жарко, он расстегнул его. Таким он и запомнился мне: с росинками пота на лбу, в расстегнутом пальто, между расходящимися полами которого виднелась белая рубашка. Некоторое время мы постояли перед окнами казарм, но Гришу не увидели и пошли домой. Пошла с нами и Лена. Дома меня отослали наверх, где теперь жила Нюра со Светкой, и я слышал, как внизу мама и Лена всхлипывали и утешали друг друга. А когда Лена уходила, мама поцеловала ее.
Лена приходила к нам еще несколько раз. Вместе с мамой они читали Гришины письма, которые приходили из Омска. Он писал, что учится на зенитчика и скоро уедет на фронт.
Ходить в десятый класс Лена не стала, поступила официанткой в столовую водников. Как-то она встретила меня и спросила:
— Почему не заходишь?
Я не знал, что ответить, потому что не понял, куда заходить: в столовую или к ней домой?
Перед самой зимой к нам приехал завод из-под Москвы. Мы, пацаны, бегали на станцию встречать составы со станками и каким-то непонятным оборудованием. Хотели помочь сгружать с платформ машины, но нас прогнали… Завод обосновался в бывших Красных казармах…
Тогда же у нас начались несчастья. В это время перестали приходить письма от папки. До этого его коротенькие письма мы получали каждый месяц. А теперь он вдруг замолчал… Мама ходила в военкомат, но там ей ничего не смогли сказать.
Пришло известие, что Гриша погиб под Наро-Фоминском, а немного позднее умерла Светка, и тогда же пришло сообщение, что в госпитале в Саратове скончался от ран Кирилл Петрович.
Света умерла в декабре. Не могу вспомнить, какого числа.
Конечно, было еще что-то — наверно, приходили врачи, давали какие-то лекарства или делали уколы. Это не осталось в памяти. А запомнилось вот что: утром Нюра не спустилась к нам. Мама позвала ее, но наверху все оставалось тихо. Позвала еще раз, а потом сама поднялась по лестнице. Через минуту послышался крик мамы. Запомнилось также, как маленький беленький гробик несли на кладбище. Наша соседка, высокая, похожая на мужчину, несла гробик перед собой на длинном вафельном полотенце, завязанном наискось через плечо. Ей было тяжело, по лицу ее струился пот, но она не уступила никому.
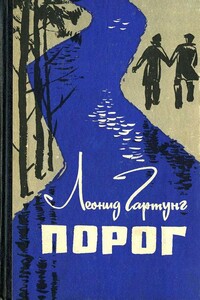
В центре повести Леонида Гартунга «Порог» — молодая учительница Тоня Найденова, начинающая свою трудовую жизнь в сибирском селе.

В книгу пошли повесть «На исходе зимы» и рассказы: «Как я был дефективным», «„Бесприданница“» и «Свидание».
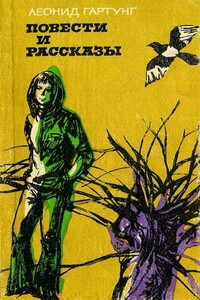
Член Союза писателей СССР Леонид Гартунг много лет проработал учителем в средней школе. Герои его произведений — представители сельской интеллигенции (учителя, врачи, работники библиотек) и школьники. Автора глубоко волнуют вопросы морали, педагогической этики, проблемы народного образования и просвещения.

В центре повести Леонида Гартунга «Зори не гаснут» — молодой врач Виктор Вересов, начинающий свою трудовую жизнь в сибирском селе. Автор показывает, как в острой борьбе с темными силами деревни, с людьми — носителями косности и невежества, растет и мужает врач-общественник. В этой борьбе он находит поддержку у своих новых друзей — передовых людей села — коммунистов и комсомольцев.В повести, построенной на острых личных и общественных конфликтах, немало драматических сцен.На глубоком раскрытии судеб основных героев повести автор показывает трагическую обреченность тех, кто исповедует философию «жизни только для себя».
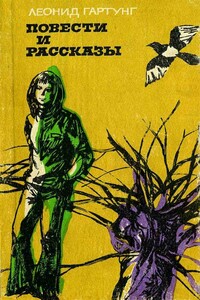
Леонид Гартунг, если можно так сказать, писатель-однолюб. Он пишет преимущественно о сельской интеллигенции, а потому часто пользуется подробностями своей собственной жизни.В повести «Алеша, Алексей…», пожалуй, его лучшей повести, Гартунг неожиданно вышел за рамки излюбленной тематики и в то же время своеобразно ее продолжил. Нравственное становление подростка, в годы Великой Отечественной войны попавшего в большой сибирский город, это — взволнованная исповедь, это — повествование о времени и о себе.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.

Журналистка Эбба Линдквист переживает личностный кризис – она, специалист по семейным отношениям, образцовая жена и мать, поддается влечению к вновь возникшему в ее жизни кумиру юности, некогда популярному рок-музыканту. Ради него она бросает все, чего достигла за эти годы и что так яро отстаивала. Но отношения с человеком, чья жизненная позиция слишком сильно отличается от того, к чему она привыкла, не складываются гармонично. Доходит до того, что Эббе приходится посещать психотерапевта. И тут она получает заказ – написать статью об отношениях в длиною в жизнь.

Истории о том, как жизнь становится смертью и как после смерти все только начинается. Перерождение во всех его немыслимых формах. Черный юмор и бесконечная надежда.

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.

