Нелли Раинцева - [4]
Среди ужина въ столовую вошли два запоздалыхъ гостя, судя по шумнымъ привѣтствіямъ, ихъ встрѣтившимъ, изъ почетныхъ. Вглядѣвшись въ старшаго изъ нихъ, я едва не ахнула, а Таня, сидѣвшая насупротивъ меня, уронила рюмку: мы узнали въ пришедшемъ Петрова — домашняго письмоводителя и большого любимца моего отца. Онъ сразу призналъ меня; на его спокойномъ вѣжливомъ лицѣ выразилось изумленіе; однако онъ не сказалъ ни слова. На Таню было жаль смотрѣть. Конецъ ужина, а онъ былъ не скорый, я, разумѣется, просидѣла, какъ на иголкахъ.
— Господи! Себя вы осрамили, а меня погубили, — отчаяннымъ голосомъ бросила мнѣ Таня, когда, наконецъ, встали изъ-за стола.
— Какъ же ты не предупредила меня, что здѣсь можно его встрѣтить? — возразила я.
— Да онъ сказалъ мнѣ, что не будетъ, что баринъ Михаилъ Александровичъ занялъ его на весь вечеръ какою-то работой. Да, видно, освободился и принесъ его чортъ на наше несчастье.
Я не потеряла присутствія духа. Отецъ всегда хвалилъ Петрова, какъ малаго честнаго, порядочнаго и — когда надо и захочетъ — умѣющаго держать языкъ за зубами. Я смѣло подошла къ нему и, не конфузясь вопроса въ его удивленныхъ глазахъ, начала съ нимъ тихій разговоръ.
— Петръ Васильевичъ, вы узнали меня?
— Узналъ-съ, Елена Михайловна, и ума не приложу-съ, — откровенно сказалъ онъ.
— Нечего и прикладывать. Просто захотѣлось пошалить. Вы — неправда ли? — будете добрый, не выдадите меня? Никому не разскажете?
Я смотрѣла на Петрова умоляющими глазами. Онъ покраснѣлъ.
— Никому-съ.
— Честное слово?
— Честное слово.
— Вотъ спасибо! А за это я во весь остальной вечеръ не буду танцѣвать ни съ кѣмъ, кромѣ васъ.
Таня, когда узнала, что Петровъ далъ честное слово не выдавать насъ, совершенно успокоилась.
— Его слово — каменная стѣна.
Послѣ третьей кадрили Таня отозвала меня въ сторону.
— Барышня, — шепнула она, — будьте такія добрыя, если насмотрѣлись на наше веселье, позвольте проводить васъ къ Христинѣ Николаевнѣ.
— Вотъ! Такъ рано? Зачѣмъ?
— Да извольте ли видѣть, Михайло мой приглашаетъ меня въ ресторанъ: что, говорить, здѣсь гнилую селедку жевать? Нешто мы сами себѣ не можемъ сдѣлать удовольствіе? А я страсть давно не была въ ресторанѣ. Кабы вы разрѣшили, — смерть хочется. Я ему говорила, что затруднительно мнѣ, что подругой обязана. А онъ говоритъ: тащи и подругу, васъ, то-есть. Ну, это, извѣстное дѣло, гдѣ же? А я такое придумала, что провожу васъ, а онъ пущай издали слѣдуетъ, и, какъ провожу, сейчасъ съ нимъ въ ресторацію.
Мнѣ было очень весело. Въ головѣ шумѣло. Я расхохоталась.
— Отчего же ты не хочешь взять меня съ собой?
— Барышня, да я бы душою рада, но какъ же?.. Нескладно что-то…
— Шалить, такъ шалить до конца. Я поѣду. Только вотъ что, ты будешь любезничать съ своимъ Михайломъ, тебѣ будетъ весело, а кто же станетъ развлекать меня? Надо четвертаго, либо подружку, либо кавалера, мнѣ все равно.
Таня весело кивнула головой и отошла къ Михаилѣ.
— Петровъ давеча просился, чтобы Михаило принялъ его въ компанію; они пріятели, оба гжатцы, одногорожане, — сказала Таня минутъ черезъ десять. — Какъ полагаете?
— Принимай, — засмѣялась я, тѣмъ лучше: вѣрнѣе не выдастъ насъ, если будетъ виноватъ, вмѣстѣ съ нами…
Она тоже засмѣялась.
— Вѣрно. А вы съ нимъ будьте поласковѣе. Онъ ничего, парень хорошій, какъ есть «комильфотъ», за него даже купчиха хотѣла замужъ выйти.
И вотъ я, Таня, ея женихъ и Петровъ очутились въ кабинетѣ грязненькаго ресторанчика. Какъ сейчасъ помню его красные съ золотыми разводами обои. Всѣ были слегка навеселѣ послѣ угощенія на вечеринкѣ. Мнѣ не слѣдовало больше пить, но я побоялась обидѣть людей, истратившихся на наше угощеніе, и понадѣялась на себя, что не опьянѣю, — я могу вынести много вина. Ни поддѣльное шампанское, котораго потребовала Таня, ошеломило меня, и не прошло четверти часа, какъ мы всѣ были страшно пьяны. Таня стала буйно-весела; а я, наоборотъ, совершенно отупѣла. Помню, что женихъ Тани цѣловалъ ее, что она на меня за что-то сердилась, стучала по столу кулакомъ, а потомъ рвала на себѣ платье и выкрикивала бранныя слова. Ей кто-то зажалъ ротъ. Она перестала буянить, но во все горло затянула пѣсню. Помню, что пришелъ распорядитель и спорилъ съ мужчинами, запрещая намъ шумѣть, и совѣтовалъ куда-то перейти…
Меня разбудила страшная головная боль. Я приподняла голову съ подушки и уронила ее назадъ, но мнѣ мелькнули незнакомые обои, и я вскочила и сѣла на постели, протирая запухшіе глаза и силясь вспомнить, гдѣ я, зачѣмъ и что со мною. Въ дверь глянуло женское лицо. Я едва узнала Таню. Она была блѣдна, желта, помята, какъ выжатый лимонъ, и въ глазахъ ея застыло такъ много ужаса, что я сразу поняла все и сама застыла въ столбнякѣ… Таня сѣла рядомъ со мною.
— Надѣлали мы дѣла! — прошептала она.
Я молчала.
— Вы не пугайтесь очень; какъ нибудь спрячемъ, — продолжала она, оживляясь. — Поправить нельзя, а скрыть нетрудно. Онъ не разскажетъ. Онъ самъ больше васъ испугался, когда отрезвѣлъ и понялъ, въ какую бѣду втравило его вино. Такъ и бросился бѣжать, словно полъ подъ его ногами загорѣлся. Господи! угораздило же васъ такъ перепиться: я сама была какъ мертвая. Не то развѣ я допустила бы? Тутъ и вины-то вашей никакой нѣтъ: хмельная — чужая.

Однажды в полицейский участок является, точнее врывается, как буря, необыкновенно красивая девушка вполне приличного вида. Дворянка, выпускница одной из лучших петербургских гимназий, дочь надворного советника Марья Лусьева неожиданно заявляет, что она… тайная проститутка, и требует выдать ей желтый билет…..Самый нашумевший роман Александра Амфитеатрова, роман-исследование, рассказывающий «без лживства, лукавства и вежливства» о проституции в верхних эшелонах русской власти, власти давно погрязшей в безнравственности, лжи и подлости…
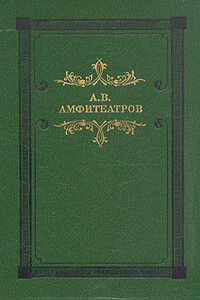
Сборник «Мертвые боги» составили рассказы и роман, написанные А. Амфитеатровым в России. Цикл рассказов «Бабы и дамы» — о судьбах женщин, порвавших со своим классом из-за любви, «Измена», «Мертвые боги», «Скиталец» и др. — это обработка тосканских, фламандских, украинских, грузинских легенд и поверий. Роман «Отравленная совесть» — о том, что праведного убийства быть не может, даже если внешне оно оправдано.

В Евангелие от Марка написано: «И спросил его (Иисус): как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, ибо нас много» (Марк 5: 9). Сатана, Вельзевул, Люцифер… — дьявол многолик, и борьба с ним ведется на протяжении всего существования рода человеческого. Очередную попытку проследить эволюцию образа черта в религиозном, мифологическом, философском, культурно-историческом пространстве предпринял в 1911 году известный русский прозаик, драматург, публицист, фельетонист, литературный и театральный критик Александр Амфитеатров (1862–1938) в своем трактате «Дьявол в быту, легенде и в литературе Средних веков».
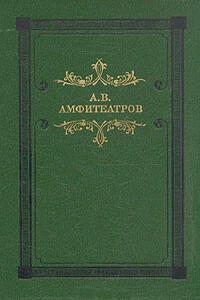
Сборник «Мертвые боги» составили рассказы и роман, написанные А. Амфитеатровым в России. Цикл рассказов «Бабы и дамы» — о судьбах женщин, порвавших со своим классом из-за любви, «Измена», «Мертвые боги», «Скиталец» и др. — это обработка тосканских, фламандских, украинских, грузинских легенд и поверий. Роман «Отравленная совесть» — о том, что праведного убийства быть не может, даже если внешне оно оправдано.Из раздела «Русь».

«К концу века смерть с особым усердием выбирает из строя живых тех людей века, которые были для него особенно характерны. XIX век был веком националистических возрождений, „народничества“ по преимуществу. Я не знаю, передаст ли XX век XXI народнические заветы, идеалы, убеждения хотя бы в треть той огромной целости, с какою господствовали они в наше время. История неумолима. Легко, быть может, что, сто лет спустя, и мы, русские, с необычайною нашею способностью усвоения соседних культур, будем стоять у того же исторического предела, по которому прошли теперь государства Запада.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Соседка по пансиону в Каннах сидела всегда за отдельным столиком и была неизменно сосредоточена, даже мрачна. После утреннего кофе она уходила и возвращалась к вечеру.

Алексей Алексеевич Луговой (настоящая фамилия Тихонов; 1853–1914) — русский прозаик, драматург, поэт.Повесть «Девичье поле», 1909 г.

«Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни… Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность…»М. Е. Салтыков-Щедрин.

«Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
