Недуг бытия (Хроника дней Евгения Баратынского) - [121]
За долгим ужином он с жадностью слушал взрослых. Разговорившийся Коншин со слезами на глазах повествовал, как ходатайствовал о нем за несколько недель до гибели своей Пушкин, помогая определиться директором училищ Тверской губернии. Расчувствовавшийся Николай Михайлыч заявил, что главною целью преподавания он считает прославление творца вселенной и что воспитанники его маршируют ничуть не хуже кадет.
"Скучный какой! — подумал Левушка и зевнул. — Как папа мог с ним служить?"
Но тут Путята стал рассказывать известные ему подробности дуэли и смерти Лермонтова — и Левушка опять воспрянул, и сидел до самой полуночи, пока спохватившаяся мать не вскричала, всплеснув руками:
— Леон! Так поздно, а ты не в постели? Quelle horreur! [152] — и его почти силком увели спать.
Отец провожал его, освещая свечой закоулки коридора. Левушка проворно разделся и юркнул под одеяло. Отец поцеловал и хотел удалиться. Но он остановил:
— Папа, а Лермонтов хорошо сочинял? Кто лучше — Лермонтов или Пушкин?
Отец сморщился, его усталое лицо помрачнело.
— Ах, да в том ли дело, кто лучше… Но ужас, ужас. Какой ужас.
— Какой ужас, папа?
— Ужас, что как только появляется у нас кто-то смелый и свободный, — тотчас готова веревка или пуля. — Отец отер белый влажный лоб и повторил задумчиво: — Да. Веревка и пуля. Или паралич нравственный… Но ты спи, спи.
И вышел.
Спалось плохо: увлекшись беседой взрослых, он незаметно для себя съел за ужином чудовищное количество рябиновой пастилы… Виделось что-то мутное, багрово-дымное. Средь этой клубящейся мглы возник вдруг огненный столп, и отец встал во весь рост, как бы поднятый этим столпом, и кивал, и говорил что-то с немыслимой высоты, — Левушке пришлось что было силы задрать голову, отчего он начал задыхаться… Но пламя качнулось — и отец, раскидывая руки, медленно повалился вниз.
Он испуганно дернулся и открыл глаза. Тихое, задыхающееся бормотанье слышалось в комнате, полуосвещенной осенним рассветом. Левушка бесшумно перевернулся на живот — и увидел отца, стоящего на коленях в профиль к нему. Руки его были сложены крестом, голова низко опущена. Отец молился. Губы шевелились беспомощно, медленная слеза ползла по щеке. Он был похож на артемовского старика-бобыля, умершего нынче летом…
Он был так невысок сейчас; так стары были его налитые свинцовой сизостью подглазья и полная, багровая шея, так горько струились резкие складки у рта, что Левушка еле удержал вздох испуга и тишком отвернулся к стене.
Но к завтраку отец вышел, как всегда, подтянутым, чисто выбритым и нарядным. Только белки глаз розовели болезненно и пальцы едва приметно дрожали.
— Почему ты так плохо ешь, ангел мой? — обычным бодрым тоном обратился он к жене.
— Я не голодна. Слезы насыщают, — скорбно отвечала она.
Отец пристыженно отодвинул от себя тарелку с кресс-салатом и попросил лакея принесть кофею.
Неожиданно распогодилось. Земля в низинах оттаяла; по-весеннему рьяно запахло смородинным листом и крапивой, а от нагретого ольшаника потянуло ясной яблонной свежестью. Ранние сумерки стали душисты и теплы, и почти жарою дышало в полдень бледно-голубое фаянсовое небо.
Место лесосеки определил Конон. Он же велел валить сперва старые, полузасохлые дерева и лишь потом переходить к спелым.
— Лучше бы по снегу, — ворчал он, по-лошадиному ступая вывороченными ступнями средь стволов, уложенных вдоль светлеющей просеки и кажущихся на земле еще огромней, чем когда они стояли. — И нижние суки обрубать — не то подрост не сохранится, подавим все. Эк, сколь подросту исказили, ленчуги безмыслые…
Два присевших на корточки мужика, звеня и жужжа отточенной до белого блеска пилой, подрезали дерево; третий рубил с противоположной стороны, сочно и гулко всаживая топор в смолистую мякоть.
Левушке нравилось в нужный момент подскакивать и что есть силы толкать комель, с замиранием сердца ощущая, как чутко, нервно натягивается в ожиданьи последнего удара исполинское тело… И вот падал этот роковой удар — и дерево вздрагивало, слегка кренилось, отстраняясь от настойчивых Левушкиных ладоней, — и медленно, как бы надеясь еще выстоять, подавалось книзу. Раздавался длинный певучий стон, сменяющийся резким хрястом; ель кренилась все быстрее, растерянно хватаясь ищущими лапами за соседние, предательски отступающие кроны, все ниже кланяясь своим губителям, — и наконец рушилась с долгим содроганьем у ног отпрыгивающего рубщика. Нравилось ему и ошкурять ствол; мужики научили ловко поддевать кору лезвием топора — толстая, плотная кожа спелого дерева лопалась под острым железом и ползла упругими ремнями, с влажным пыхтеньем отделяясь от заболони.
— Попробуйте, барчук, лизните: солодкая, — сказал рубщик, щедро скаля редкие сахарные зубы.
Он лизнул лоснистую, словно припотевшую заболонь — она и впрямь оказалась сладкою, сочной. Оголенный ствол, покрытый ссадинами и рубцами, светлел на синеватой траве живою желтизной, а немного подсохнув, становился похож на кость какого-то колоссального животного. И Левушка проникался внезапной шалостью к повершенному великану…
Отдохнув на липком, прикрытом папоротниками пеньке, он побрел дальше, к Сумери. Нетерпеливый, перебойчатый стук топоров, ноющее пенье пил, шорох и грохот рушимых дерев стояли окрест. Взгляд, привыкший к черно-зеленой сутеми непроходимого леса, то и дело проваливался в пустые просветы, оставленные упавшими деревьями. Он вспомнил свой сон: отец медленно падает, распахивая ищущее объятье; вспомнил режущий свет, полоснувший по глазам, — и, охваченный внезапной тревогой, побежал туда, где раздавался звонкий, возбужденный голос Николеньки.

— Привели, барин! Двое дворовых в засаленных треуголках, с алебардами в руках истово вытянулись по сторонам низенькой двери; двое других, одетых в мундиры, втолкнули рыжего мужика с безумно остановившимися голубыми глазами. Барин, облаченный в лиловую мантию, встал из кресел, поправил привязанную прусскую косу и поднял золоченый жезл. Суд начался.
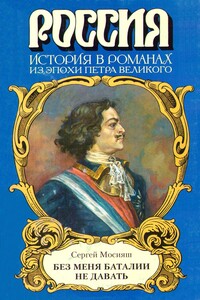
"Пётр был великий хозяин, лучше всего понимавший экономические интересы, более всего чуткий к источникам государственного богатства. Подобными хозяевами были и его предшественники, цари старой и новой династии, но те были хозяева-сидни, белоручки, привыкшие хозяйничать чужими руками, а из Петра вышел подвижной хозяин-чернорабочий, самоучка, царь-мастеровой".В.О. КлючевскийВ своём новом романе Сергей Мосияш показывает Петра I в самые значительные периоды его жизни: во время поездки молодого русского царя за границу за знаниями и Полтавской битвы, где во всём блеске проявился его полководческий талант.
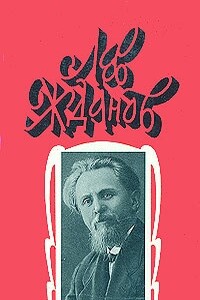
Среди исторических романистов начала XIX века не было имени популярней, чем Лев Жданов (1864–1951). Большинство его книг посвящено малоизвестным страницам истории России. В шеститомное собрание сочинений писателя вошли его лучшие исторические романы — хроники и повести. Почти все не издавались более восьмидесяти лет. В шестой том вошли романы — хроники «Осажденная Варшава», «Сгибла Польша! (Finis Poloniae!)» и повесть «Порча».

Роман «Дом Черновых» охватывает период в четверть века, с 90-х годов XIX века и заканчивается Великой Октябрьской социалистической революцией и первыми годами жизни Советской России. Его действие развивается в Поволжье, Петербурге, Киеве, Крыму, за границей. Роман охватывает события, связанные с 1905 годом, с войной 1914 года, Октябрьской революцией и гражданской войной. Автор рассказывает о жизни различных классов и групп, об их отношении к историческим событиям. Большая социальная тема, размах событий и огромный материал определили и жанровую форму — Скиталец обратился к большой «всеобъемлющей» жанровой форме, к роману.

В книгу вошли два романа ленинградского прозаика В. Бакинского. «История четырех братьев» охватывает пятилетие с 1916 по 1921 год. Главная тема — становление личности четырех мальчиков из бедной пролетарской семьи в период революции и гражданской войны в Поволжье. Важный мотив этого произведения — история любви Ильи Гуляева и Верочки, дочери учителя. Роман «Годы сомнений и страстей» посвящен кавказскому периоду жизни Л. Н. Толстого (1851—1853 гг.). На Кавказе Толстой добивается зачисления на военную службу, принимает участие в зимних походах русской армии.

В романе Амирана и Валентины Перельман продолжается развитие идей таких шедевров классики как «Божественная комедия» Данте, «Фауст» Гете, «Мастер и Маргарита» Булгакова.Первая книга трилогии «На переломе» – это оригинальная попытка осмысления влияния перемен эпохи крушения Советского Союза на картину миру главных героев.Каждый роман трилогии посвящен своему отрезку времени: цивилизационному излому в результате бума XX века, осмыслению новых реалий XXI века, попытке прогноза развития человечества за горизонтом современности.Роман написан легким ироничным языком.

Книга Елены Семёновой «Честь – никому» – художественно-документальный роман-эпопея в трёх томах, повествование о Белом движении, о судьбах русских людей в страшные годы гражданской войны. Автор вводит читателя во все узловые события гражданской войны: Кубанский Ледяной поход, бои Каппеля за Поволжье, взятие и оставление генералом Врангелем Царицына, деятельность адмирала Колчака в Сибири, поход на Москву, Великий Сибирский Ледяной поход, эвакуация Новороссийска, бои Русской армии в Крыму и её Исход… Роман раскрывает противоречия, препятствовавшие успеху Белой борьбы, показывает внутренние причины поражения антибольшевистских сил.