Недоподлинная жизнь Сергея Набокова - [113]
Признавшись, что меня из их разговора попросту исключили, я сделаю это без всякой горечи, поскольку исключение мое — я это хорошо понимал — было не выпадом в мой адрес, но внешним проявлением гармонии, царившей в отношениях этой четы и никогда прежде мною не виданной, даже у наших родителей, чей брак всегда производил на меня впечатление пугающе безоблачного.
Брат наслаждался всем, что говорила и делала Вера. Я хоть и поеживался немного от его ласкательных словечек — счастье мое, мой персик, моя сказочная, — но тем не менее понимал, что, несмотря на бедность Володи и Веры, на неопределенность их будущего, на все теснее обступавшую их уродливость жизни, брат мой оставался на диво счастливым.
На следующий день Володя провожал меня на Центральном вокзале. Хотя свидание наше и не дало нам возможности поговорить так, как я рассчитывал, долго и обстоятельно, я был тем не менее благодарен брату, позволившему мне хоть и мельком, но увидеть его супружескую жизнь. И, когда мы пили напоследок «Пильзнер» в затхлом вокзальном буфете, я спросил, нельзя ли нам еще раз вернуться к давнему, грозившему мне помешательством вопросу о Давиде Горноцветове?
Он меня определенно не понял.
— Давид Горноцветов, — напомнил я, — и балетный танцор в «Машеньке», носящий ту же фамилию, — да, собственно, и другие детали того, что ты написал. Вот совсем недавно, к примеру, я прочитал твой прекрасный рассказ «Адмиралтейская игла» и обнаружил в нем — не в нем первом — то, чего знать ты ну никак не мог, мелкие подробности, в сущности, незначительные, но очень близкие некоторым… Как бы это сказать? Моим личным переживаниям. На самом деле я не очень хорошо понимаю, о чем пытаюсь тебя расспросить.
Он терпеливо улыбнулся. Я увидел поверх его плеча, как скакнула вперед минутная стрелка вокзальных часов: устройства из тех, которые показывают нам, что объект их измерения не текуч и не плавен, но состоит из дискретных мгновений, каждое из коих отделено и от предшествующего ему, и от последующего.
— Вот и я тоже, — ответил мой брат. — Послушай, Сережа. Я писатель. А писатель всегда приметлив и в половине случаев даже не замечает, что успел что-то приметить. Конечно, это не очень удовлетворительный ответ. Но боюсь, самый честный, какой я могу тебе дать.
— Понимаю, — сказал я. (Минутная стрелка дернулась снова.) — Я всегда надеюсь на большее, даже зная, что большего не существует.
— Качество, вне всяких сомнений, прекрасное. Однако любой человек может дать тебе только то, что он может дать.
Я напомнил себе, что с самого начала не ждал от брата очень многого, и тут он меня удивил.
— Я не потрудился спросить тебя о Германе, — сказал Володя. — Его ведь так зовут, верно? Герман?
Имя это он произносил на немецкий манер.
— Да, Герман. Он чудо. И, если говорить простыми словами, он спас мне жизнь. Когда бы не он…
— Я все понимаю, Сережа. Общего у нас с тобой гораздо больше, чем кто-нибудь мог бы подумать. Я ведь тоже не написал бы без Веры ни одного романа.
Минутная стрелка дрогнула.
— Полагаю, ты не шутишь, — сказал я.
— С чего бы? Я совершенно серьезен. И благодарен за мое спасение так же, как ты за свое.
— В таком случае, надеюсь, переписка наша не прервется. Я ее очень ценю.
Зеленовато-карие глаза Володи встретились с моими. На лице его появилось сконфуженное выражение.
— Что такое? — спросил я.
— Ну, если тебе совершенно необходимо знать это… — Он примолк.
Я посмотрел на минутную стрелку. Рывочек!
— Перепиской моей ведает Вера.
Услышанное я понял не сразу. А поняв, спросил:
— Как? Все это время я писал письма Вере!
— И она отвечала тебе. Вера считает твои письма очаровательными. Она говорила мне это множество раз. И разумеется, я их читаю. Просто затрудняюсь на них отвечать. Я объяснил бы, в чем тут дело, но, по-моему, тебе пора садиться на поезд. Я же вижу, как ты посматриваешь на часы. Застревать в Берлине тебе решительно ни к чему.
46
Не могу сказать, что в те счастливые годы я стал совершенным затворником. Мы с Германом нередко спускались из нашего горного гнезда валькирий, чтобы посетить Мюнхен, Зальцбург, Париж. С парижскими моими друзьями я виделся все реже и реже — жизнь разбросала их. Американцы по большей части вернулись домой; в Америку же уехали (хоть и не вместе) Челищев и Таннер. «Русский балет» распался на несколько враждовавших трупп, а Кокто занялся сочинением пьес.
Олега я увидел всего один раз — да и то издали, через широкие Елисейские Поля. Машина его поломалась — из радиатора вылетали сердитые клубы пара, — другие автомобили объезжали ее, и издали могло показаться, что клубы не менее гневные испускает и он. Олег меня не заметил, а я на помощь ему не пришел. В какого бы рода помощи он ни нуждался, я предложить ее все равно уже не мог. Сняв куртку, он немилосердно хлопал ею по капоту своей злополучной машины, как крестьянин лупит чем ни попадя по бокам многострадальной скотины, свалившейся под непосильным для нее бременем, — картина, наверняка представлявшаяся большинству прохожих смешной, но меня погрузившая, как всякое воспоминание о России, в меланхолию.
Каждый август мы, я и Герман, совершали паломничество в Байройт, и, если — пока тянулись тридцатые — нам приходилось мириться со свастиками и прочими атрибутами национал-социализма, это представлялось малой ценой, которую мы платили за привилегию услышать, как Ричард Штраус дирижирует в 1933-м «Парсифалем», или, в жаркое лето 1937-го, как гениальный мыслитель Фуртвенглер толкует полный цикл «Кольца». До чего же мне хотелось, чтобы с нами был отец. Эти постановки изменили бы его отношение к Вагнеру — а может быть, и нет, если вспомнить, что программу всякий раз украшал большой, во всю страницу, портрет Гитлера.

Автор, человек «неформальной» сексуальной ориентации, приводит в своей книге жизнеописания 100 выдающихся личностей, оказавших наибольшее влияние на ход мировой истории и развитие культуры, — мужчин и женщин, приверженных гомосексуальной любви. Сократ и Сафо, Уитмен и Чайковский, Элеонора Рузвельт и Мадонна — вот только некоторые имена представителей общности людей «ничем не хуже тебя».

Какие бы великие или маленькие дела не планировал в своей жизни человек, какие бы свершения ни осуществлял под действием желаний или долгов, в конечном итоге он рано или поздно обнаруживает как легко и просто корректирует ВСЁ неумолимое ВРЕМЯ. Оно, как одно из основных понятий философии и физики, является мерой длительности существования всего живого на земле и неживого тоже. Его необратимое течение, только в одном направлении, из прошлого, через настоящее в будущее, бывает таким медленным, когда ты в ожидании каких-то событий, или наоборот стремительно текущим, когда твой день спрессован делами и каждая секунда на счету.

Коллектив газеты, обречённой на закрытие, получает предложение – переехать в неведомый город, расположенный на севере, в кратере, чтобы продолжать работу там. Очень скоро журналисты понимают, что обрели значительно больше, чем ожидали – они получили возможность уйти. От мёртвых смыслов. От привычных действий. От навязанной и ненастоящей жизни. Потому что наступает осень, и звёздный свет серебрист, и кто-то должен развести костёр в заброшенном маяке… Нет однозначных ответов, но выход есть для каждого. Неслучайно жанр книги определен как «повесть для тех, кто совершает путь».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Секреты успеха и выживания сегодня такие же, как две с половиной тысячи лет назад.Китай. 482 год до нашей эры. Шел к концу период «Весны и Осени» – время кровавых междоусобиц, заговоров и ожесточенной борьбы за власть. Князь Гоу Жиан провел в плену три года и вернулся домой с жаждой мщения. Вскоре план его изощренной мести начал воплощаться весьма необычным способом…2004 год. Российский бизнесмен Данил Залесный отправляется в Китай для заключения важной сделки. Однако все пошло не так, как планировалось. Переговоры раз за разом срываются, что приводит Данила к смутным догадкам о внутреннем заговоре.

Все, что казалось простым, внезапно становится сложным. Любовь обращается в ненависть, а истина – в ложь. И то, что должно было выплыть на поверхность, теперь похоронено глубоко внутри.Это история о первой любви и разбитом сердце, о пережитом насилии и о разрушенном мире, а еще о том, как выжить, черпая силы только в самой себе.Бестселлер The New York Times.
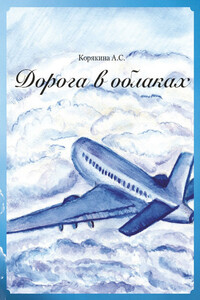
Из чего состоит жизнь молодой девушки, решившей стать стюардессой? Из взлетов и посадок, встреч и расставаний, из калейдоскопа городов и стран, мелькающих за окном иллюминатора.