Нечаев вернулся - [54]
Он сделал движение, будто хотел коснуться ее руки.
— Вы действительно очень похожи на Ньевес… Хотя вид у нее не горожанки, а селянки, если вам понятно, что я имею в виду! Она нам очень помогла… Иногда и теперь я просыпаюсь в холодном поту, когда мне снятся те дни. Или от собственного хохота. Во всяком случае, через десять дней мы уже гуляли по Парижу, целые и невредимые. И даже позволили себе по пути обчистить банк в Жероне, так как были на полной мели!
Сонсолес громко рассмеялась.
Она теперь расслабилась совершенно. В мечтах она уже моталась по свету, пьяная от счастья, с тем полоумным тридцатилетним бродягой Луисом Сапатой, который впоследствии сделался ее отцом. Марру меж тем продолжал:
— В Париже не могли прийти в себя от удивления. Здесь нас уже похоронили и надеялись, что молодчики из Гражданской гвардии добросовестно продырявили нас у какой-нибудь придорожной канавы. Но мы возвратились, подозревая, что кое у кого рыльце в пушку. С обоюдного согласия решили не обострять отношения. Мы — молчок о наших подозрениях, сделали вид, что номер был прост и удался на славу. А Луис получил досрочное освобождение.
Она не сводила с него глаз.
— Вам бы следовало записать эту историю, господин Марру. Вышел бы сценарий для гениального фильма!
— Я уже подумывал об этом, — признался он. — Но я — никудышный рассказчик!
Сонсолес покачала головой.
— Ваш первый вечер в Сан-Себастьяне. Мой отец перед картиной Веласкеса… Вы все это очень здорово описали!
Она внезапно сорвала с носа очки, придававшие ей вид школьницы-отличницы. И вдобавок менявшие выражение лица. Глаза у нее блестели.
Неужели он действительно хорошо рассказал? Он далеко не был в этом уверен.
Он-то знал: для того чтобы правдиво передать какую-нибудь историю, следует все выдумать от начала до конца, ибо реальные действующие лица этой истории, даже ее главные персонажи, повествуют обо всем хуже, чем сторонний наблюдатель. Истина сия относится к числу общеизвестных банальностей, особенно когда речь идет о делах литературных. Всякому понятно, что герой романа знает о своей судьбе меньше, нежели автор. Элементарно, дорогой Постав! Да, именно Флобер выразил самоочевидность подобного умозаключения, приперчив почти женоненавистнической грубостью: «Эмма Бовари — это я!» Однако подобное замечание не теряет истинности, когда соотносится с перипетиями большой человеческой Истории. С той только разницей, что в ней нет иного сочинителя, кроме Господа Бога. Во всяком случае, последний выступает в роли Верховного Повествователя.
Впрочем, после Боссюэ в Большой Истории романиста-вседержителя углядеть трудновато. В конце концов, будем справедливыми: все это довершил Гегель, провозгласив конец Истории. Великие попытки ее возродить, попытки грандиозные, предпринимались немецкими постромантиками, но они касались только мира античности. Да оно и понятно: античность не так идеологизирована. Ради нее никто и нигде — разве что на каком-нибудь диспуте в Сорбонне — не впутается в жаркий спор по поводу того, как можно интерпретировать закат Римской империи. В то время как Вандея или Робеспьер все еще будят страсти. Покойники Французской революции доселе переворачиваются в своих могилах.
Во всяком случае, сторонники новой школы, отправившей на свалку Верховного Повествователя, будут охотно и весело рассказывать вам об истории Средиземноморья, о климате, о путях торговли солью, рисом или пшеницей, об американском золоте, о том, когда впервые стали пользоваться вилкой, как видоизменялись брачные и внебрачные связи, об эволюции сточных канав, но остерегутся касаться универсальных положений Всеобщей истории. Уже не найдешь историка, рядящегося в Бога, приглядывающегося к его верховной обители или пытающегося подражать божественному Глаголу. Что, впрочем, лишь подкрепляет идею, саму по себе довольно забавную, согласно которой никто сейчас так не походит на гипотетического Бога, как реальный писатель!
И в самом деле, лишь два этих персонажа человеческой комедии способны преодолевать апории cogito[31]. Единственные, кто не желает удовлетворяться тавтологической формулировкой «Я мыслю, следовательно, существую», исполненной откровенного самолюбования, но достаточно инфантильной и малодейственной, единственные, кто может с неожиданным безмятежным мужеством утверждать: «Я мыслю, следовательно, они (вещи или живые существа) существуют. Так оно и есть!» Мы обнаружим весь свет, а подчас и высший свет, укрывшийся за ergo[32] гипотетического Бога и пишущего романиста, одержимых своими ergo. А «весь свет» при этом приобретает двойной смысл: сборища человеческих существ и целого мироздания. Я мыслю, следовательно, так оно и есть!
Но тут его умственные блуждания были прерваны:
— Старший комиссар Роже Марру?
Он поднял голову. Перед ним стоял бармен.
— Вас к телефону.
Сонсолес глядела ему в спину, пока он шел к кабинке. Бармен тоже. Лицо последнего излучало удовлетворение. Вот уже полчаса он гадал, что собой представляет эта парочка. Ему нравилось знать, кто есть кто. Девушку он уже два-три раза здесь видел. А ее спутника нет. Так значит, он — старший комиссар. Наверно, сейчас что-то сочиняет: мемуары или роман. В последние годы многие из них пописывают. А она, должно быть, работает неподалеку в каком-нибудь издательстве. Кстати, все издательства расположены поблизости отсюда, по крайней мере те, что хоть что-нибудь значат. А имя Марру он запомнит. Поглядеть только на его морду — можно голову прозакладывать, что он сочиняет полицейский триллер. С 1945-го бармен с Пон-Рояля перевидал тут все сливки французской интеллигенции, так что ошибки быть не может. На его глазах делались и гробились всякие репутации, не только литературные. Этот человек слыхивал свистящий шепот взаимных оскорблений, любовные признания, сальные намеки, отточенные фразы по поводу ничего не значащих пустяков и пустяшный треп о вещах основополагающих. Он видел, как прилюдно ласкают чужое тщеславие и тайно под столом — соседскую коленку. Привык наблюдать, как льстят, угрожают, соблазняют, шантажируют, чтобы заполучить женщину, синекуру, правительственную субсидию или литературную премию. Так и жил он в полутьме, полушепоте, среди слухов и опровержений. В общем, погрузившись с головой в то, что в жизни действительной обычно выносится за скобки.

В центре романа «Долгий путь» — описание нескольких дней в вагоне поезда, переправляющего из Франции в концентрационный лагерь Бухенвальд сотни узников, среди которых находится и автор будущего романа. В книге, вышедшей почти двадцать лет спустя после воспроизведенных в ней событий, скрещиваются различные временные пласты: писатель рассматривает годы войны и фашизма сквозь призму последующих лет.
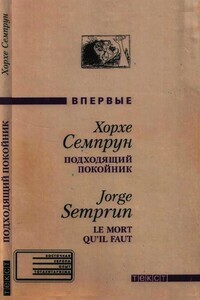
Хорхе Семпрун (р. 1923) — французский писатель и сценарист испанского происхождения, снискавший мировую известность, член Гонкуровской академии. Новая книга Семпруна автобиографична, как и написанный четыре десятилетия назад роман «Долгий путь», к которому она является своеобразным постскриптумом. Читатель проживет один день с двадцатилетним автором в Бухенвальде. В администрацию лагеря из гестапо пришел запрос о заключенном Семпруне. Для многих подобный интерес заканчивался расстрелом. Подпольная организация Бухенвальда решает уберечь Семпруна, поменяв его местами с умирающим в санитарном бараке молодым французом…

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.
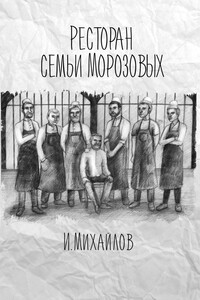
Приветствую тебя, мой дорогой читатель! Книга, к прочтению которой ты приступаешь, повествует о мире общепита изнутри. Мире, наполненном своими героями и историями. Будь ты начинающий повар или именитый шеф, а может даже человек, далёкий от кулинарии, всё равно в книге найдёшь что-то близкое сердцу. Приятного прочтения!

Логики больше нет. Ее похороны организуют умалишенные, захватившие власть в психбольнице и учинившие в ней культ; и все идет своим свихнутым чередом, пока на поминки не заявляется непрошеный гость. Так начинается матово-черная комедия Микаэля Дессе, в которой с мироздания съезжает крыша, смех встречает смерть, а Даниил Хармс — Дэвида Линча.

ББК 84. Р7 84(2Рос=Рус)6 П 58 В. Попов Запомните нас такими. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2003. — 288 с. ISBN 5-94214-058-8 «Запомните нас такими» — это улыбка шириной в сорок лет. Известный петербургский прозаик, мастер гротеска, Валерий Попов, начинает свои веселые мемуары с воспоминаний о встречах с друзьями-гениями в начале шестидесятых, затем идут едкие байки о монстрах застоя, и заканчивает он убийственным эссе об идолах современности. Любимый прием Попова — гротеск: превращение ужасного в смешное. Книга так же включает повесть «Свободное плавание» — о некоторых забавных странностях петербургской жизни. Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Администрации Санкт-Петербурга © Валерий Попов, 2003 © Издательство журнала «Звезда», 2003 © Сергей Шараев, худож.

Книга эта в строгом смысле слова вовсе не роман, а феерическая литературная игра, в которую вы неизбежно оказываетесь вовлечены с самой первой страницы, ведь именно вам автор отвел одну из главных ролей в повествовании: роль Читателя.Время Новостей, №148Культовый роман «Если однажды зимней ночью путник» по праву считается вершиной позднего творчества Итало Кальвино. Десять вставных романов, составляющих оригинальную мозаику классического гипертекста, связаны между собой сквозными персонажами Читателя и Читательницы – главных героев всей книги, окончательный вывод из которого двояк: непрерывность жизни и неизбежность смерти.
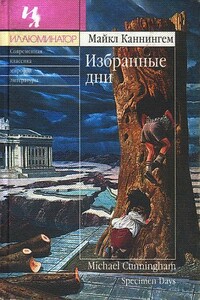
Майкл Каннингем, один из талантливейших прозаиков современной Америки, нечасто радует читателей новыми книгами, зато каждая из них становится событием. «Избранные дни» — его четвертый роман. В издательстве «Иностранка» вышли дебютный «Дом на краю света» и бестселлер «Часы». Именно за «Часы» — лучший американский роман 1998 года — автор удостоен Пулицеровской премии, а фильм, снятый по этой книге британским кинорежиссером Стивеном Долдри с Николь Кидман, Джулианной Мур и Мерил Стрип в главных ролях, получил «Оскар» и обошел киноэкраны всего мира.Роман «Избранные дни» — повествование удивительной силы.
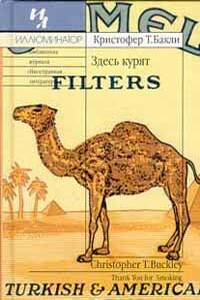
«Здесь курят» – сатирический роман с элементами триллера. Герой романа, представитель табачного лобби, умело и цинично сражается с противниками курения, доказывая полезность последнего, в которую ни в грош не верит. Особую пикантность придает роману эпизодическое появление на его страницах известных всему миру людей, лишь в редких случаях прикрытых прозрачными псевдонимами.

Роман А. Барикко «Шёлк» — один из самых ярких итальянских бестселлеров конца XX века. Место действия романа — Япония. Время действия — конец прошлого века. Так что никаких самолетов, стиральных машин и психоанализа, предупреждает нас автор. Об этом как-нибудь в другой раз. А пока — пленившая Европу и Америку, тонкая как шелк повесть о женщине-призраке и неудержимой страсти.На обложке: фрагмент картины Клода Моне «Мадам Моне в японском костюме», 1876.