Не-места. Введение в антропологию гипермодерна - [3]
Утверждение, согласно которому этнологи стали чаще обращать взоры на Европу из-за сокращения исследовательских возможностей в дальних странах, по меньшей мере спорно. Во-первых, возможности работы в Африке, Америке и Азии по-прежнему вполне реальны. Во-вторых, причины, побуждающие антропологов проводить исследования в Европе, позитивны: речь ни в коем случае не идет об антропологических исследованиях «за неимением лучшего». И именно рассмотрение позитивных причин может помочь нам продуктивно рассмотреть оппозицию между «Европой» и «остальным миром» и связанные с этой оппозицией некоторые из наиболее модернистских определений европеистской этнологии.
Тема «этнологии ближнего» скрывает в себе двойной вопрос. Во-первых, это вопрос, может ли в своем нынешнем положении этнология Европы претендовать на тот же уровень точности, сложности и концептуализации, что и этнология дальних обществ. Ответ на этот вопрос в целом положительный, по крайней мере со стороны этнологов, занимающихся европейскими исследованиями с перспективой на будущее. Так, Мартин Сегален может с удовлетворением заметить (в упомянутом выше сборнике), что два специалиста по системам родства, работавшие в одном и том же европейском регионе, способны вести дискуссию так же оживленно, как и два специалиста по одной и той же африканской народности; одновременно Энтони Коэн отмечает, что работы Робина Фокса по антропологии родства на острове Тори или исследования Мэрилин Стретерн в Элмдоне, с одной стороны, свидетельствуют о центральной роли отношений родства и о многообразии стратегий, связанных с такого рода отношениями, в «наших» обществах, а с другой – о множественности культур, сосуществующих в такой стране, как современная Великобритания[4].
Вопрос, поставленный таким образом, однако, рискует сбить нас с толку. Он может означать либо неспособность европейских обществ к символизации, либо неготовность этнологов-европеистов к ее анализу.
Второй вопрос заключается совсем в другом. Факты, общественные институты, способы объединений (в сферах работы, досуга, проживания), способы перемещения, специфичные для современного мира, – подлежат ли они рассмотрению с антропологических позиций?
Во-первых, отметим, что этот вопрос касается не только – и даже не в первую очередь – Европы. Всякий, кто имел дело с Африкой, например, хорошо себе представляет, что любой глобальный антропологический подход должен учитывать огромное количество взаимосвязанных элементов, вызванных к жизни непосредственной действительностью и не всегда поддающихся делению на «традиционные» и «модерные». Но хорошо известно и то, что институциональные формы, составляющие сегодня основу для понимания общественной жизни (работа по найму, предприятие, большой спорт, средства массовой информации) играют все более важную роль во всех уголках мира.
Во-вторых, отметим, что второй вопрос полностью замещает первый: объектом нашего рассмотрения является уже не Европа, а современность как таковая, причем в самых агрессивных, тревожащих и актуальных аспектах.
Здесь самое важное – не спутать вопрос о методе с вопросом о предмете. Часто можно слышать (Леви-Стросс не раз говорил об этом), что современный мир поддается этнологическому наблюдению в той степени, в которой в нем возможно вычленить единицы наблюдения, подходящие для наших методов исследования. Так, мы знаем, какое важное значение Жерар Альтаб (в свое время, возможно, не догадывавшийся о том, какое влияние окажут его исследования на дискурс наших[5] политиков) придавал лестничным клеткам и жизни лестниц в многоквартирных домах Сен-Дени или окраин Нанта.
Любой, кто занимался полевой работой, знает, что этнологическое исследование имеет свои ограничения (одновременно являющиеся достоинствами), и что этнолог вынужден хотя бы приблизительно очерчивать границы группы, с которой он сможет познакомиться и которая сможет его признать. Этот очевидный факт имеет, однако, множество аспектов. Метод и необходимость установления эффективного контакта с информантами – это один аспект; репрезентативность выбранной группы – совсем другой. Мы должны знать, что нам говорят те, с кем мы говорим и кого видим, о тех, с кем мы не говорим и кого не видим. Работа полевого этнолога с самого начала заключается в «межевании» социального, в тонком обращении с масштабами, в небольших сравнительных исследованиях. Этнолог мастерит некий универсум значений, при необходимости изучая промежуточные универсумы посредством краткосрочных исследований или обращаясь к пригодным для его целей документальным свидетельствам. Он пытается дать себе и другим четкое представление о тех, о ком он имеет право говорить, рассказывая о своих информантах. Нет оснований считать, что эта проблема репрезентативности, проблема реальности эмпирического объекта имеет разную природу в африканском королевстве и на предприятии, расположенном в парижском предместье.
Здесь можно сделать два замечания. Первое касается истории, второе – антропологии, и оба касаются стоящей перед каждым полевым этнологом задачи по определению «местоположения» эмпирического объекта исследования и оценке его качественной репрезентативности. Говоря о «качественной репрезентативности», мы имеем в виду не отбор статистически значимой выборки, а выяснение, насколько одно и то же явление имеет одинаковое значение для одного рода, для другого рода, для деревни, для разных деревень etc. В этой же перспективе находятся и проблемы определения таких понятий, как «племя» или «этническая группа». Задачи, стоящие перед этнологами, сближают их со специалистами по микроистории и одновременно удаляют друг от друга. Чтобы не ставить под сомнение первенство этнографов, уточним, что микроисторический анализ подводит историков к необходимости думать этнографически, чтобы оценить репрезентативность анализируемых ими частных явлений, таких как «жизнь мельника из Фриули в XV веке», например; но чтобы гарантировать такую репрезентативность, им приходится прибегать к понятиям «косвенных данных», «следов» или «исключительности примера», в то время как добросовестный полевой этнолог всегда имеет возможность выйти за исходно поставленные им рамки, чтобы проверить ценность своих первоначальных данных. Это преимущество работы с настоящим, однако, достаточно скромно по сравнению с главным козырем историков: последние знают, что происходит потом.

Мир воображаемого присутствует во всех обществах, во все эпохи, но временами, благодаря приписываемым ему свойствам, он приобретает особое звучание. Именно этот своеобразный, играющий неизмеримо важную роль мир воображаемого окружал мужчин и женщин средневекового Запада. Невидимая реальность была для них гораздо более достоверной и осязаемой, нежели та, которую они воспринимали с помощью органов чувств; они жили, погруженные в царство воображения, стремясь постичь внутренний смысл окружающего их мира, в котором, как утверждала Церковь, были зашифрованы адресованные им послания Господа, — разумеется, если только их значение не искажал Сатана. «Долгое» Средневековье, которое, по Жаку Ле Гоффу, соприкасается с нашим временем чуть ли не вплотную, предстанет перед нами многоликим и противоречивым миром чудесного.

Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.

Перед Вами – сборник статей, посвящённых Русскому национальному движению – научное исследование, проведённое учёным, писателем, публицистом, социологом и политологом Александром Никитичем СЕВАСТЬЯНОВЫМ, выдвинувшимся за последние пятнадцать лет на роль главного выразителя и пропагандиста Русской национальной идеи. Для широкого круга читателей. НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ Рекомендовано для факультативного изучения студентам всех гуманитарных вузов Российской Федерации и стран СНГ.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .

Китай все чаще упоминается в новостях, разговорах и анекдотах — интерес к стране растет с каждым днем. Какова же она, Поднебесная XXI века? Каковы особенности психологии и поведения ее жителей? Какими должны быть этика и тактика построения успешных взаимоотношений? Что делать, если вы в Китае или если китаец — ваш гость?Новая книга Виктора Ульяненко, специалиста по Китаю с более чем двадцатилетним стажем, продолжает и развивает тему Поднебесной, которой посвящены и предыдущие произведения автора («Китайская цивилизация как она есть» и «Шокирующий Китай»).

Д.и.н. Владимир Рафаилович Кабо — этнограф и историк первобытного общества, первобытной культуры и религии, специалист по истории и культуре аборигенов Австралии.

Книга стала итогом ряда междисциплинарных исследований, объединенных концепцией «собственной логики городов», которая предлагает альтернативу устоявшейся традиции рассматривать город преимущественно как зеркало социальных процессов. «Собственная логика городов» – это подход, демонстрирующий, как возможно сфокусироваться на своеобразии и гетерогенности отдельных городов, для того чтобы устанавливать специфические закономерности, связанные с отличиями одного города от другого, опираясь на собственную «логику» каждого из них.

Внутри устоявшегося языка описания, которым пользуются современные урбанисты и социологи, сформировались определенные модели мышления о городе – иными словами, концептуализации. Сегодня понятия, составляющие их фундамент, и сами модели мышления переживают период смысловой «инфляции» и остро нуждаются в серьезной рефлексии. Эта книга о таких концептуализациях: об истории их возникновения и противостояния, о философских основаниях и попытках воплотить их в жизнь. В своем исследовании Виктор Вахштайн показывает, как идеи «локального сообщества», «городской повседневности», «территориального контроля», «общественного пространства» и «социальной сегрегации» закреплялись в языке социологов, архитекторов и планировщиков, как из категорий познания превращались в инструменты управления.
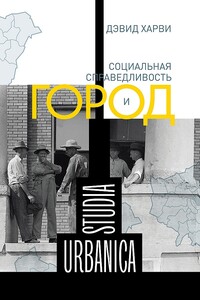
Перед читателем одна из классических работ Д. Харви, авторитетнейшего англо-американского географа, одного из основоположников «радикальной географии», лауреата Премии Вотрена Люда (1995), которую считают Нобелевской премией по географии. Книга представляет собой редкий пример не просто экономического, но политэкономического исследования оснований и особенностей городского развития. И хотя автор опирается на анализ процессов, имевших место в США и Западной Европе в 1960–1970-х годах XX века, его наблюдения полувековой давности более чем актуальны для ситуации сегодняшней России.

Город-сад – романтизированная картина западного образа жизни в пригородных поселках с живописными улочками и рядами утопающих в зелени коттеджей с ухоженными фасадами, рядом с полями и заливными лугами. На фоне советской действительности – бараков или двухэтажных деревянных полусгнивших построек 1930-х годов, хрущевских монотонных индустриально-панельных пятиэтажек 1950–1960-х годов – этот образ, почти запретный в советский период, будил фантазию и порождал мечты. Почему в СССР с началом индустриализации столь популярная до этого идея города-сада была официально отвергнута? Почему пришедшая ей на смену доктрина советского рабочего поселка практически оказалась воплощенной в вид барачных коммуналок для 85 % населения, точно таких же коммуналок в двухэтажных деревянных домах для 10–12 % руководящих работников среднего уровня, трудившихся на градообразующих предприятиях, крохотных обособленных коттеджных поселочков, охраняемых НКВД, для узкого круга партийно-советской элиты? Почему советская градостроительная политика, вместо того чтобы обеспечивать комфорт повседневной жизни строителей коммунизма, использовалась как средство компактного расселения трудо-бытовых коллективов? А жилище оказалось превращенным в инструмент управления людьми – в рычаг установления репрессивного социального и политического порядка? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в этой книге.