Наш город - [13]
Прыг — и в бане.
Потом оба окна захлопнули, и так тихо стало.
Прямо не знаю, как это и может так тихо быть.
И все это случилось так, что мигнуть не успеть.
И гром мой девался куда-то — точно я пустой стал — одна одежа. Стою посреди двора и не знаю: было или нет?
Неужели это Андрей с Иосей?
„Не выдавай, сказал, малец“.
Они, значит! Они!
„Не выдавай…“
Они это! Ясно…
А тут тоже, откуда ни возьмись, полезли на наш двор городовые, стражники, — больше, больше, чуть не весь двор. Ружьями так в небо и махают. От шинелей дышать нечем стало, голова закружилась, — чуть не упал я.
Они ко мне:
— Видал?
— Кажи!
— Куда? Показывай!
Обступили. — Стена…
Я как в яме.
А они махают ружьями — бородатые.
Не то, что мне страшно было, а смутно как-то сделалось, что на людей они непохожи, и что они не ходят, не двигаются как люди, а словно прыгают, словно это пляска у них какая.
— Сказывай!
— Куды?
— Кажи!
— Показывай!
А тут один скомандовал:
— Становись у дверей! Чего на мальчонку кинулись? Что он смыслит?
А потом как заорет на меня изо всех сил:
— Кажи, пащенок паршивый, куда делись?..
— Туда — говорю, а сам показываю куда-то, непонятно куда: не то на крышу, не то на забор…
— Да ты толком показывай! Куда делись?
— Туда…
Еще непонятнее, чуть не на небо, куда-то показываю. И на небо и на улицу. И вдруг чувствую, что покраснел.
Выдаю, думаю, выдаю… Пропал я!
А он на меня с нагайкой:
— Кажи, собачий сын!.. Я тебя как Сидорову козу!
Не выдам, думаю, не выдам. Похолодел весь, и на этот раз совсем ясно на калитку показываю:
— Туда.
А он как еще больше рассердится, как нагайкой меня по ногам хватит.
— Вон, сукин сын!
Я сел на землю, за ногу схватился. Чуть не пищу от боли.
— Это, говорю, наш дом, я здесь живу.
— Что-о-о?!
За шиворот как меня поднял — так я и вылетел за подворотню.
Опомнился я, когда пальбу подняли. И что было!
Того и гляди земля треснет, — так палили.
А я сам себя не понимаю. Не дивлюсь я ничему. Тут такое делается, а я как пустой, — словно и нет меня.
Дом наш тоже словно околел на месте. Стоит как будто такой же, как был, а не такой. Окна на улицу как глаза потемнелые смотрят, пустые.
А клен-то — как и тогда, только темный стал, лапками попахивает взад — вперед, взад — вперед. Словно он живой — только с ума спятил. Тут тебе палят, земля трещит, а он лапками взад — вперед, взад — вперед. Не могу я смотреть на него. Страшнее всего мне он тогда показался.
А тут смотрю: народ стал к лавочке за амбаром сбегаться.
— Отраву. — говорят, — от Юдки принесли. Травить их будут!
Повернулось во мне что-то. Неужели, подымалось, на самом деле, это все делается? Может видится? Сон, может — как тогда с колокольней? Нет, не сон! Герасимов, лютый, бегает, орет чего-то. Какой же сон!
И стражники у отравы спорят. Во сне так не говорят, по-моему.
— Митрий, сыпь это в трубу, да водой залей. Ступай!
А Митрий, большущий стражник, с ноги на ногу мнется.
— Да я, говорит, лучше его винтовкой возьму. Все на Митрия:
— Иди, раз тебе говорят!
— А ты сам поди! А что как это для нас отрава?
Помолчали все. Видно, что сомненье взяло. А ну как сам отравишься?
— Балда ты, — по начальству пришло. Чего мутишь? Пошел!
— Да право слово, я лучше винтовкой. Ясно дело, это для нас отрава. Мало што по начальству! Не начальство отраву делало!
— Кто делал?
Все знали, кто делал. Юдка делал.
Опять молчат. Еще больше сомненье стало.
А отрава стоит на скамеечке, в кульке в бумажной. — маленькая, словно снетков фунт.
Это мне тогда не думалось, что в аккурат — как снетков фунт.
А стражник рассуждает:
— Кто делал? Юдка делал. А нешто Юдка пойдет супротив свово роду-племени? Маленький-то там — его! (Это про Иосю, что он Юдкинова роду-племени). — Нет у них такого закону, чтобы супротив свово пойти!
Совсем раздумались и городовые, и стражники. И уж стали бояться отраву и в руки взять, и даже подойти близко.
А тут узналось, что ранило одного. Так с крыши и скатился. Разбился здорово. Побежали все. К отраве часового приставили — сторожить. Я уж не видал — увезли раненого на извозчике.
Опять к отраве.
Одни говорит:
— Иван Гарасимыч, мое мнение: аптекаря сюда надо. Сам делал, так сам и сыпь!
Все так и решили: к Юдке надо. — Пускай сам!
Я и не знал, что в аптеку с черного хода можно. Я никогда аптеки с черного хода не видал. Оказывается, она в роде кухни. Только кастрюль нет. Все склянки, склянки и судомойки, и в судомойках склянки. Мокнут. И на полках банки, а в них как мука какая-то. Написано не по-нашему.
Которая, думаю, отрава-то?
А городовые уж с Юдкой спорят. Так все пересумятились, что и нас в аптеку пустили и не гонят.
Юдка забоялся сам итти.
— Как это можно, чтобы провизор на войну шел! Провизор в аптеке быть должен. Он не военный. На войне должен быть военный. А вдруг кому надо лекарство. Где провизор? Почему на войне? Разве он военный? Нет, нет, это непорядок. Это большой непорядок. А вдруг в городе кто болен, а вдруг в городе много больных? А вдруг господина исправника супруге дурно? Ей всегда может быть дурно. А вдруг ей совсем дурно? А вдруг самому господину исправнику дурно? Где провизор? Нет провизора! А вдруг провизор погиб на войне, а супруге господина исправника дурно? Где провизор? Погиб провизор. Нет, господин начальник. Город может погибнуть. А тут просто. Тут не надо уметь. У науки свое дело, у господина военного свое дело. Вещество — это наука. Порох — это наука. А разве наука стреляет? Стреляет военный. Тут не надо стрелять. Тут просто, совсем просто. Сыпать в трубу, лить воду — вот и все. Это всякий мальчик может сделать.

Этот рассказ написан совсем молодым человеком, который впоследствии стал известным художником, — Александром Николаевичем Самохваловым.В 1918 году Самохвалов вместе с другими студентами Академии художеств участвовал в «великом аврале» — массовом изготовлении революционных лозунгов к празднику Первое мая. Сроки были минимальны, и, казалось бы, немудреная эта и чисто ремесленная работа была превращена в истовое творчество, в трудовую страсть, одержимость, в напряженный поиск молодыми художниками самых выразительных и острых плакатных средств, о чем взволнованно и лаконично повествует Самохвалов, идя «по горячим следам» событий.

Всё своё детство я завидовал людям, отправляющимся в путешествия. Я был ещё маленький и не знал, что самое интересное — возвращаться домой, всё узнавать и всё видеть как бы заново. Теперь я это знаю.Эта книжка написана в путешествиях. Она о людях, о птицах, о реках — дальних и близких, о том, что я нашёл в них своего, что мне было дорого всегда. Я хочу, чтобы вы познакомились с ними: и со старым донским бакенщиком Ерофеем Платоновичем, который всю жизнь прожил на посту № 1, первом от моря, да и вообще, наверно, самом первом, потому что охранял Ерофей Платонович самое главное — родную землю; и с сибирским мальчишкой (рассказ «Сосны шумят») — он отправился в лес, чтобы, как всегда, поискать брусники, а нашёл целый мир — рядом, возле своей деревни.
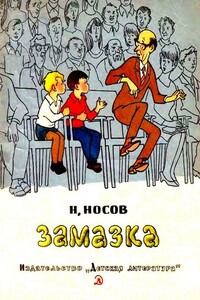
Стекольщик поставил новые окна… Скучно? Но станет веселей, если отковырять кусок замазки и … Метро - очень сложная штука. Много станций, очень легко заблудиться… Да и в эскалаторах запутаться можно… Художник Генрих Оскарович Вальк.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Что будет, если директор школы вдруг возьмет и женится? Ничего хорошего, решили Демьян с Альбиной и начали разрабатывать план «военных» действий…

В этой повести писатель возвращается в свою юность, рассказывает о том, как в трудные годы коллективизации белорусской деревни ученик-комсомолец принимал активное участие в ожесточенной классовой борьбе.

История про детский дом в Азербайджане, где вопреки национальным предрассудкам дружно живут маленькие курды, армяне и русские.
