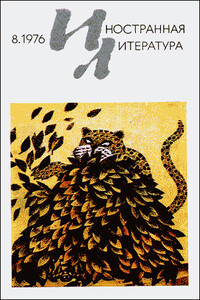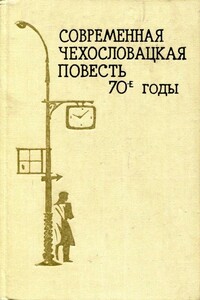Направление — Прага - [110]
Перевела с чешского И. Сыркова.
Отакар Халоупка
ОДА «К РАДОСТИ»
Мои поднятые руки напряженно застыли.
Всего на полсекунды.
Я не гляжу на них — что глядеть, в точности знаю, какие они, руки, торчащие из черных рукавов с белыми манжетами. В эти полсекунды я рук своих вообще не ощущаю, будто не мои.
Полсекунды не вижу я ни сидящих передо мной музыкантов в таких же черных костюмах с белыми манишками, ни инструменты, которые ведомы мне так, словно я сам владею игрой на каждом из них. Мне вообще нет нужды смотреть прямо перед собой — точно знаю я, где сидят флейты, а где гобои, где фаготы и кларнеты, а где трубы. И где струнные. Где на возвышении в глубине сцены выстроился хор, пока что безмолвно и невозмутимо развернувший свои партии.
Все детали известны мне досконально, ибо я стою так не впервые. Мне пятьдесят пять, и уже много, бесконечно много раз стоял я вот так, с застывшими наготове руками, и ждал, когда истекут полсекунды и я взмахну тонкой палочкой, зажатой в пальцах правой руки.
Лишь полсекунды — и мы заиграем дальше: ждут оркестр, хор, подравнявшийся на возвышении, ждет зрительный зал, в котором гаснут последние глухие покашливания, оттягивающие заветный миг. Лишь полсекунды — и руки мои дрогнут, и отовсюду — не только со сцены, нет, отовсюду — со стен, с потолка, с неба, что высоко над залом, изо всех домов нашего города, с его улиц, мостовых и фонарей, из реки, протекающей по нему, с моста, что недалеко отсюда, из замка на том берегу, из лесов и полей, подступивших к новым окраинным районам, с асфальтовых шоссе, запруженных вечерними, спешащими домой машинами, из поездов и самолетов, выруливающих на стартовую полосу, — да, отовсюду польются звуки, выше которых нет ничего в моей жизни. Как люблю я именно эту музыку, которой столько раз дирижировал. Люблю и знаю наперед, какой я ее услышу: будто со старой, заигранной пластинки, сплошь покрытой царапинами и выбоинами, звучащей без высоких и низких частот, плоско и хрипло, точно из жестянки.
Такой услышу ее только я. Никто в целом зале не догадается, что под эти звуки, под это пение финала Девятой[19] я первый и последний раз в своей жизни убил человека.
Человека, который при других обстоятельствах мог быть мне другом или братом.
Ну вот, руки мои уже пришли в движение. Как всегда, справа под мышкой немного режет фрак… Игла опускается на звуковую дорожку…
…Пластинок у меня немного, но для пятнадцатилетнего мальчишки вполне достаточно. Во всяком случае, все в моей маленькой комнате заставлено специальными подставками из толстой изогнутой проволоки, по которым рассованы тяжелые, покрытые шеллаком диски. А звучания каждого хватает всего на несколько минут, причем то и дело приходится менять иглы, которые я покупаю — в изящных жестяных коробочках с картинкой — в лавке у Вроубека.
Везде у меня пластинки, и у окна, где стена идет под углом, потому что комнату эту, гордо именуемую теперь мансардой, мне оборудовали на чердаке, под самым скатом крыши небольшого дома на окраине города. В холода ветер тянет изо всех щелей, а зимы у нас на Высочине суровые. Не комната, а каморка, вся уставленная пластинками. Но главный предмет здесь — радиола, перед которой я обычно и сижу. Особенно этой весной: в школу ходить не надо — ее превратили в лазарет, а мы вместо уроков должны работать на фабрике. Правда, следят за этим не очень строго. Какие теперь строгости, если по всем домам, заперев двери и затемнив окна, слушают радио, на карте булавками отмечают города, проводят линию фронта. Она подходила все ближе и ближе к нам, дошла до Моравии, а это уж рукой подать. Можно не следить больше по карте — распахивай окно да прислушивайся к орудийным залпам.
Именно это я и делал даже чаще, чем слушал свою радиолу, а под вечер задворками пробирался в гимназию, превращенную в лазарет, и, прошмыгнув мимо квартиры школьного сторожа, крал там бинты и таскал их к Шимаковым, потому что у Шимаковых день за днем копился кое-какой запас. Мы, дети, только догадывались, а взрослые точно знали, что в скором времени он пригодится. Бинты были упакованы в оболочку из непромокаемой ткани с пропечатанным на ней орлом.
Но в тот день я, ей-богу, не отходил от радиолы.
…Правда, сегодня я только и делаю, что кручу пластинки, больше ничего неохота, ни одной путной мысли в голове, хотя, кажется, именно сейчас не время расслабляться. Утром под окнами нашего дома прошла последняя фашистская колонна, беспорядочная, изрядно потрепанная, грузовики вперемежку с легковыми машинами и мотоциклами — кто как успел вклиниться в поток. Приемник через определенные интервалы времени дает о себе знать позывными Пражского радио, все взрослые неизвестно где, а я единственное, что в состоянии делать, — ставить одну пластинку за другой. Один я тут одинешенек, под самой крышей, и отец куда-то ушел — на рукаве повязка, на голове кепка, в которой только в лес по грибы ходить, а мать помчалась к Шимаковым. Один остался на весь дом, а пластинки на 78 оборотов кончаются так быстро.
…Я даже не испугался, когда услышал скрип ступеней и тупые удары, будто чем-то тяжелым задевали стену — лестница-то узкая.

В жизни каждого человека встречаются люди, которые навсегда оставляют отпечаток в его памяти своими поступками, и о них хочется написать. Одни становятся друзьями, другие просто знакомыми. А если ты еще половину жизни отдал Флоту, то тебе она будет близка и понятна. Эта книга о таких людях и о забавных случаях, произошедших с ними. Да и сам автор расскажет о своих приключениях. Вся книга основана на реальных событиях. Имена и фамилии действующих героев изменены.
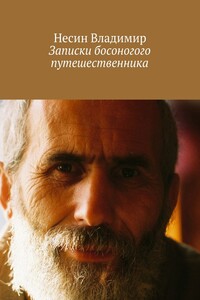
С Владимиром мы познакомились в Мурманске. Он ехал в автобусе, с большим рюкзаком и… босой. Люди с интересом поглядывали на необычного пассажира, но начать разговор не решались. Мы первыми нарушили молчание: «Простите, а это Вы, тот самый путешественник, который путешествует без обуви?». Он для верности оглядел себя и утвердительно кивнул: «Да, это я». Поразили его глаза и улыбка, очень добрые, будто взглянул на тебя ангел с иконы… Панфилова Екатерина, редактор.

«В этой книге я не пытаюсь ставить вопрос о том, что такое лирика вообще, просто стихи, душа и струны. Не стоит делить жизнь только на две части».

Пьесы о любви, о последствиях войны, о невозможности чувств в обычной жизни, у которой несправедливые правила и нормы. В пьесах есть элементы мистики, в рассказах — фантастики. Противопоказано всем, кто любит смотреть телевизор. Только для любителей театра и слова.

«Неконтролируемая мысль» — это сборник стихотворений и поэм о бытие, жизни и окружающем мире, содержащий в себе 51 поэтическое произведение. В каждом стихотворении заложена частица автора, которая очень точно передает состояние его души в момент написания конкретного стихотворения. Стихотворение — зеркало души, поэтому каждая его строка даёт читателю возможность понять душевное состояние поэта.

Спасение духовности в человеке и обществе, сохранение нравственной памяти народа, без которой не может быть национального и просто человеческого достоинства, — главная идея романа уральской писательницы.