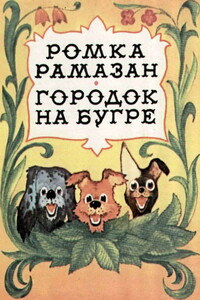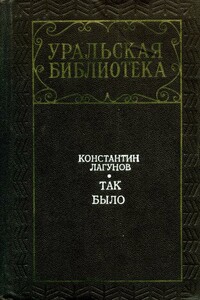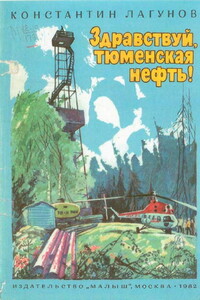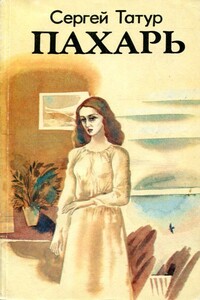Старик воротился с девушкой. Длинные черные распущенные волосы, большие, темные глаза и очень яркая белозубая улыбка.
— Послушайте, — подступил к ней Бурлак. — Я хочу знать, почему поставлен памятник этой собаке…
— Гут, — сказала девушка. — Я совсем плохо… мало говорю русиш… Это собака… хозяин, врач. Жил тут… — Указала на дом, с которого бронзовый дог не спускал стерегущего взгляда. — Был большой вода… Дунай вышел за берега… Город утопил. Люди погибал. Он, — показала взглядом на дога, — спасал малы… киндер… Много спасал. За то ему… Улицу зовут, как хозяина — Ференц Кутра. Раньше звали… — наскоро перемолвилась с дедом, — штрассе амазонка. Ферштеен зи?
— Спасибо. Данке шён. — Пожал руку деду, потом девушке. — Как вас зовут? Я — Максим, — постучал по своей груди. — Максим! А вы? — нацелил на нее указательный палец.
Слегка запрокинув голову, девушка засмеялась легким, прозрачным смехом и сквозь него выговорила:
— Их бин Олга.
— Ольга? — изумился и обрадовался он.
— Я… Олга…
— Иштен эннёл, — сказал на прощание старик, и они ушли.
И Бурлак опять подошел к памятнику. Подосадовал, что забыл спросить, как звали собаку. «Важно ли это? Главное, увековечили и пса, и хозяина».
— Ну… Пес… — Жаркая волна окатила Бурлака. — Как ты тут? Сорок… сорок четыре года. Красив, бродяга… Король… И эта… Олга… Фантастика!..
Мир от него вроде бы чуть отодвинулся, отстранился и, слегка накренясь, замер, застыл в непривычном ракурсе, и Бурлак впервые, как бы со стороны, чужим, оценивающе трезвым взглядом увидел себя и Ольгу. Нет, не эту венгерскую девушку, а ту, далекую, Ольгу Павловну Кербс, начальника БРИЗа заполярного треста Гудымтрубопроводстрой, которым уже десятый год управлял Бурлак.
— Что это? Куда меня кинуло?.. — потерянно проговорил он, вглядываясь в возникшее перед ним красивое, гордое женское лицо с упрямой морщинкой меж светлых, пушистых бровей, полногубым насмешливым ртом и широко открытыми бледно-синими глазами.
Ни словом, ни жестом она ни разу не выказала своих чувств, но глаза… Столкнувшись с ней взглядом, Бурлак спешил закончить разговор, зачем-то лез в стол, заглядывал в папку, брался за телефонную трубку. Она понимающе опускала длинные, будто накладные ресницы и начинала покусывать нижнюю губу. Куда бы ни смотрел Бурлак в этот миг — на телефонный диск или на россыпь машинописных строк — все равно он отчетливо видел только ее. Нужно было огромное усилие воли, чтобы подавить желание коснуться этой женщины, сказать ей… «Все. Вы свободны», — выговаривал он чужим голосом. Или: «Позвоните мне к концу дня». Или еще что-нибудь подобное.
Слепо шагнул Бурлак к скамье, тяжело сел на нее, навалясь локтями на каменную твердь столешницы. То, что годы подспудно копилось в нем, — невысказанное, неосмысленное, насильно загнанное в подполье, в темную глубь души, — вдруг разом выплеснулось наружу, и, неожиданно захлестнутый этой волной, он вроде бы захмелел. Сердце заколотилось гулко и часто, восторг — пьянящий, желанный, всепоглощающий восторг, заполнил его до краев.
Ах как солнечно, как прекрасно было вокруг и в нем. Все окружающее стало неестественно ярким и нереальным, как на детских рисунках. Выстроившиеся треугольником вязы, холодные серые глыбы зданий, чугунные решетки оград, каменные плиты под ногами — все, буквально все — живое и мертвое, — все заструило вдруг тепло и свет. Какое это счастье, какое наслаждение чувствовать и сознавать, что ты здоров, силен, полон энергии и жажды деятельности, что ты еще молод — духом и телом.
Небрежно мазнув по столешнице кожаной визиткой, вытряхнул из нее авторучку, конверт и несколько чистых листков.
«Уважаемая Ольга Павловна!
Дорогая Ольга!
Оленька!
Я люблю Вас.
Слышите?
Я люблю! — кричит во мне каждая клетка.
Неистово вопит…
Срывается с привязи и рвется к Вам.
Наверно, я сошел с ума, раз пишу это из Будапешта, тогда как мог бы сказать, глядя Вам в глаза…»
— Не мог бы… Не смог бы… Не посмел… Не сказал! — пробормотал он сквозь зубы. — Никогда не сказал…
До сей минуты у него в жизни было две радости: дочь и работа.
На этих двух полюсах держалась его жизненная ось. И как бы стремительно ни раскручивалась жизнь, в какие сумасшедшие крены ни запрокидывалась, ось выдерживала, не срывалась с опорных точек, и Бурлак был доволен судьбой, доволен и, похоже, счастлив.
Работа поглощала энергию ума и тела, пожирала время, ненасытно и скоро, так скоро, что он порой не поспевал следить за скольжением дней и, глянув на дату в газете или припомнив какое-то, казалось, совсем недавнее событие, ужасался бесшабашному, безудержному полету времени.
Область, в которой находился его трест, оказалась единственной из нефтедобывающих провинций страны, способной наращивать добычу. На ее плечи взвалили немыслимую тяжесть: перекрывать убыль идущих на спад старых нефтяных районов и в то же время обеспечивать общесоюзный прирост добычи. А нефть, как известно, течет по трубам. «Нет трубы — нефти нет и газа нет…» Эта логическая цепочка завершалась таким «звенышком», от которого и на расстоянии холодело внутри. Тут уж не до самоанализа, не до возвышенных эмоций: только давай, давай и давай! Хоть вдвое, хоть втрое, хоть вдесятеро быстрей крутись — все равно окажется медленно.