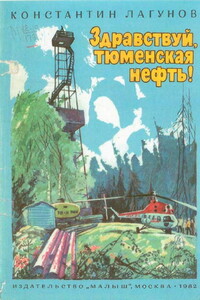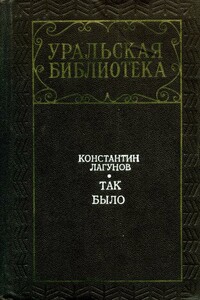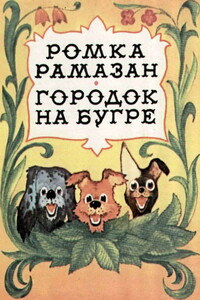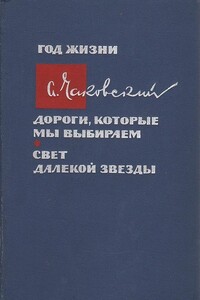Кинув топорик, Бурлак опустился на высокую кудлатую кочку. Та мягко спружинила, но совсем не просела и оказалась очень удобным сиденьем.
Большие, неотложные заботы, приведшие его на Черный мыс, равно как и маленькие хлопоты о хворосте для костра, — все отодвинулось, стушевалось, и хотя не пропало, не отцепилось вовсе, но и не беспокоило. А в размягченное дремотной тишиной и пряными запахами уходящего лета сознание вошла Ольга Кербс, вошла и тут же впустила туда бронзового дога: уши торчком, хвост откинут, прицельно цепкий взгляд преданных, умных глаз. «Привет, старик», — мысленно окликнул пса Бурлак. Но дог даже ухом не повел. «Ты получила мое письмо?» — «Меня же нет в Гудыме, — ответила Ольга. — Я в отпуске. У мамы. На Волге…» — «Откуда я взял, что она у мамы и на Волге?» — опомнясь, спросил себя Бурлак, но так и не доискался ответа. Какая разница, откуда? Слышал или придумал. Ольги нет в Гудыме — это факт. Заехать бы с ней в такую вот глушь. Поставить палатку. Река. Лес. И ни души кругом. Все так просто и доступно — ни средств, ни усилий, ни труда. Бери, раз желаешь. А попробуй-ка возьми… Не раз подобное бывало в жизни. Кажется, только шевельни рукой, захоти — и вот оно, заветное, желанное. Но… Почему-то не получалось. И чем независимей, самовластней и могущественней становился он, тем неодолимей и непременней делалось это «но». Так наверняка случится и сейчас. Погорит, пожжет внутри, а наружу ни искорки, разве что горький дымок просочится. «А письмо? Получит же. Прочтет. Явится. И что тогда? Тогда… А-а! Живы будем — не помрем, а помрем, так похоронят… Хорошо, что нет ее сейчас в Гудыме…»
Хрустнул сучок — глухо и негромко, будто чавкнул кто-то неведомый, но близкий. Бурлак резко обернулся на звук и в нескольких метрах от себя увидел высокого, худого, очень живописного старика. Был он в серой, потертой стеганке, застегнутой на все пуговицы. Синий ворот толстого свитера туго охватывал длинную шею. Из-под вязаной шапочки на макушке струились тонкие и как будто невесомые белые пряди, подчеркивая смуглость иссеченных морщинами загорелых обветренных щек. От непропорционально широкого выпуклого лба лицо резко сужалось к подбородку. Под крупным вислым носом белели пышные холеные усы. В руках старика длинный посох, похожий на чабанскую гирлу. Как видно, он нужен был не как опора, а как приятная безделушка. «Откуда свалился?» — подумал Бурлак. Нехотя встал, но сказал приветливо:
— Здорово, дед.
Тот сдержанно поклонился и огорошил:
— С кем имею честь?
И с таким неподдельным, ненаигранным достоинством произнес это, а ясные глаза заблестели вдруг так необыкновенно ярко и молодо, что Бурлак проглотил скользнувшие на язык насмешливые слова, погасил ироническую улыбку, спросил только:
— Чей будешь, дед?
— Верейский. — Он снова поклонился. — Борис Александрович Верейский. А вы?
Бурлаку ничего не оставалось, как представиться.
— Знаю вас, — тут же живо откликнулся Верейский. — Понаслышке, разумеется. Живу на реке, а по ней вести быстрее телеграфа. Вы ведь за главного у трубостроителей?
— Заглавный, да еще с красной строки, — шутливо подтвердил Бурлак. — Оставили вот за кострового. Пошел за валежником, да залюбовался этими уродцами. Как на подбор.
— И уродством, оказывается, можно любоваться. Стало быть, и урода можно любить?
Застигнутый вопросом врасплох, Бурлак ответил неуверенно:
— Наверное. «Любовь зла, полюбишь и козла».
— Помните еще, — удивился Верейский. — А мне иногда кажется, будто все прежнее позабыто и вычеркнуто. Выброшено за борт. Все! Обычаи, обряды, вера и…
— Да нет, не все. Осталось кое-что…
— Кое-что, — со вздохом повторил Верейский. — По-моему, вгорячах и в спешке мы выбросили немало ценного…
— Например?
— Доброту. Сострадание. Милосердие…
Так разговаривая, они набрали по охапке хвороста. В четыре руки быстро натаскали гору сушняка. Палочка к палочке, будто строя какое-то важное сооружение, Верейский сложил прутики и сучья островерхим чумом, сунул внутрь кусочек бересты. От первой спички костер вспыхнул и заполыхал.
— Не курите? — спросил Верейский, придвигаясь поближе к огню. — А я подымлю, с вашего позволения.
«Какая изысканность!» — хотел съязвить Бурлак, но опять промолчал. В этом сухощавом и крепком, как кедровый корень, старике была какая-то необычность — настораживающая и притягивающая одновременно. За его внешней горделивой изысканностью чудилось что-то очень значимое, и Бурлаку захотелось добраться до этого «что-то».
В длинный мундштук аккуратно вставив сигарету, Верейский прикурил от вынутого из костра прутика.
— Ушицы свеженькой захотелось?
— Ушица — это так… Приложение. Дней через пять — семь придут сюда баржи с трубами и горючим. До Гудыма — не дотянут. Не успеют вернуться. Придется разгружать здесь.
— В воду?
— За пять дней мы здесь такую площадку отгрохаем. И кран поставим, и емкости…
— За пять дней? — удивился Верейский.
— Больше не отпущено. На Севере все время — ножки по одежке.
— Пора бы уж и по ножкам одежку. Давно пора. Аврал — это крайность, а вы его в норму…
«Смотри, как судит. Апостол! Чего-чего, а критиковать научились…» Однако и на сей раз Бурлак почему-то спрятал неудовольствие, смиренно спросив: