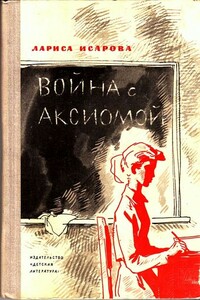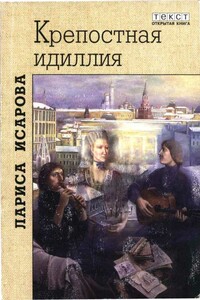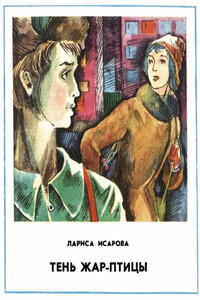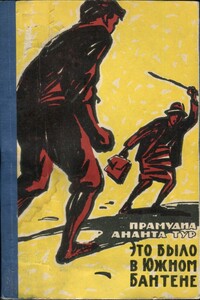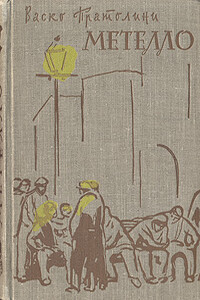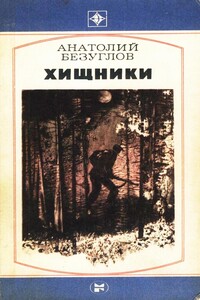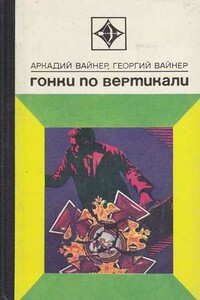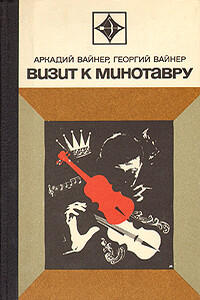Я вечор в лугах гуляла,
Грусть хотела разогнать,
И цветочков там искала,
Чтобы к милому послать.
Татьяна Беденкова не могла без слез слышать странный ее высокий голос, произносивший с тоской и серьезностью:
Долго, долго я ходила:
Погасал уж солнца свет,
Все цветочки находила,
Одного лишь нет, как нет…
Татьяна никогда не была красавицей, лицо малоподвижное, доброе, медленный разговор, чуть сонные движения. Но вот встала на пути чаровница Анна Изумрудова, певица наглая, насмешливая. Нет, граф не обижал больную Татьяну, не мучил работой в тиятре, ждал дите с довольствием, но Татьяна худела день ото дня и таяла так, что вскоре на шее зазмеились синие жилы, густая седина забелила ее русые волосы, а браслеты падали с руки, когда она ее опускала, закручинившись…
Татьяна одна лишь жалела Парашу, предчувствовала горести: летела дите в огонь, как бабочка, а слова сказать ей не решалась. Об нее сии слова могли бы удариться с могильным стуком, последние крупицы радости смыть.
Не дари меня ты златом,
Подари мне лишь себя:
Что в подарке мне богатом?
Ты скажи: «Люблю тебя…»
Звенел чистейший голос девочки, переливался, таял в вышине, и казалось Татьяне, что с этим невиданным голосом то ли отрока, то ли девы и сама она тает, уходит в небесную синеву, жалея лишь неродившегося младенца.
А когда Парашу перевели к «графскому верху», встречаться им стало невмочь. Неусыпно следили надзирательницы Настасья Калмыкова да Арина Кирилина, собаки барские, за девочкой по пятам ступали, в затылок дышали. «Ни же отцу, ни же брату родному навещать оных актерок не разрешено», — приказывал еще старый граф, создав при тиятре домашнюю полицию: «гусарского командира» Ивана Белого и двенадцать «гусар», одетых в мундиры яркие, невиданные. Встали на вечную охрану, аки львы у актерского дома.
А уж Парашу лелеяли, точно истинную жемчужину, и к болящей Татьяне подпускать было настрого запрещено. Лишь несколько месяцев спустя узнала она о смерти доброй подруги, возле которой отогревалась детской душой, расспрашивая о молодом графе. Сгинула от «горловой чахотки», сломанная обидой и тоской недавняя первая певица. Но записку переслала с огромной Ариной Кирилиной, отдала за услугу медальон золотой, графский подарок, жемчугом усыпанный. И в бумажке той пророчила, чтобы, как взойдет Параша в милость к графу, не забыла ее бедную дочь-сиротку, пожалела, о матери хоть словечко молвила…
Невзлюбила Парашу новая главная крепостная метресска — Анна Изумрудова. Хоть соперниц не очень страшилась. Уж такие были богатые у нее рыжие волосы, густые, жесткие, как конская грива, даже старый граф шептал, когда дева их на сцене распускала почти до полу: «Иродиада, чистая дьяволица». Да и кожи ни у кого белее не было, а глаза — зеленый крыжовник, и умела она ими блеснуть невзначай, обжигая, и с приятной веселостью опустить долу. И пела чисто, грудным спокойным голосом, и плясала на сцене с живостью французской. Гости поглядывали с придыханием, откупить предлагали, да и свои, дворовые, вились мошкарой — ныне она «первый сюжет» молодого графа…
Но учителей к Изумрудовой не нагоняли взводом, а у этой комарихи — ни минуты свободной. Утром репетиции, потом изучение языков, потом граф водил Парашу в свою картинную галерею, показывал да рассказывал разные разности, потом в библиотеке книги смотрели, да еще уроки на арфе, сам Кордона приглашен, на клавесине Джованни надсаживается с ней, с Дегтяревым пела дуэты, а вечерами — во всех спектаклях участвовала, не боялась графа опорочить…
А через несколько месяцев, только стукнуло Параше одиннадцать годков, молодой граф поручил ей заглавную роль в опере Сакини «Колония, или Новое селение».
Анна злорадствовала, девы шушукались, все предвкушали провал. Да видано ли это, чтоб девчонка, и ростом невеличка, и сама тощенькая, над куклой ей в пору мурлыкать, любовь истинную изображала?!
Вроблевский пробовал слово молвить поперек. Николай Петрович его прогнал, даже старого графа уломал…
И правда, в девчонку точно бес вселился. Она появлялась на сцене во время репетиций Белиндой, невестой губернатора острова, величественно, достойно, ступала, как истинная придворная дама, даже росту в ней точно прибавилось, а уж голос звучал совсем не по-детски. Губернатор заподозрил Белинду в неверности и хотел отомстить, женившись на другой, и дева решила покинуть в лодке остров, где потеряно счастье. Лишь в последнюю минуту клевета рассеялась, губернатор ее удержал, когда она собралась уплыть куда глаза глядят, перестав мечтать «о верности, в любви нелицемерности».
Граф сам с ней роль проходил, рассказал о характере Белинды, ее мужестве, благородстве. Параша слушала, как сказку, особливо когда он доходил до шепота в самых сердцещипательных местах. И она понимала, как это понижение голоса звучит волнующе после трелей изнемогающей в тоске героини. Николай Петрович вспоминал репетиции Клерон, когда волшебница парижская занималась при нем в зале с Рокур. Она требовала, чтобы ученица произносила медленно восемнадцать строк гекзаметра на одном дыхании, не меняя звука, потом повышала голос после каждой строки, потом понижала. В сии минуты крошечная капризница Клерон, которой подчинялся даже герцог Ришелье, суетливая, тщеславная, болтливая, вдруг вырастала точно на котурнах, и голос ее звучал в самых Дальних уголках огромной залы парижского особняка…