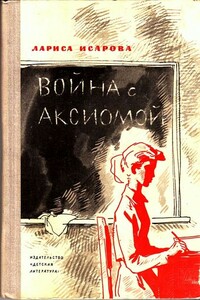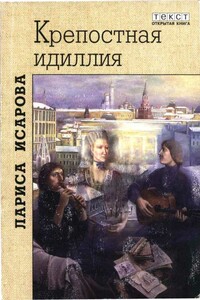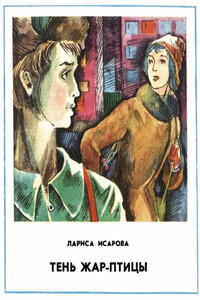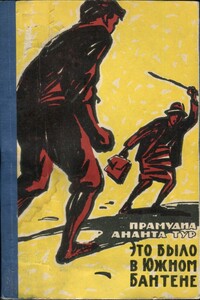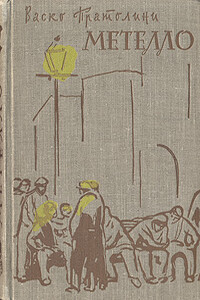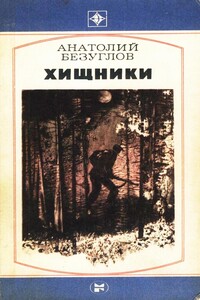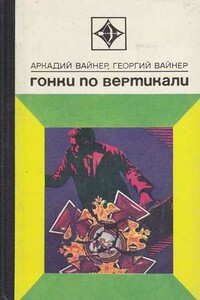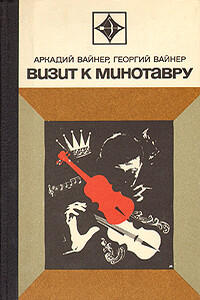«Я был только исполнителем воли покойной моей супруги, а также ее распоряжения, о котором она мне неоднократно говорила. Я должен отдать должное памяти моей жены и истине, поэтому прошу упомянуть о ней, хотя ее скромность и возражала бы, но мое сердце этого требует, как заслуженную дань добродетели и чувствительности души, которую я потерял… Поэтому я настоятельно хотел бы включить в текст устава этого дома упоминание о благотворительной воли той, которая была светом моей жизни…»
Писал это письмо граф Николай Петрович Шереметев графу Строганову. Он был оскорблен тем, что в проекте устава учреждаемого им Странноприимного дома в Москве, показанного государю, не упомянуто имя его жены, бывшей крепостной певицы Прасковьи Ивановны Ковалевой-Жемчуговой.
Заканчивался бурный и яркий XVIII век. Во Франции вспыхнула и разгорелась революция. В России был отправлен в ссылку Радищев, посажен в крепость вольнодумец Роман Цебриков вослед за Новиковым.
И в это время больная, приговоренная к ранней смерти от туберкулеза удивительная женщина придумала и завещала осуществить одно из самых грандиозных благотворительных дел в России.
По ее воле был построен знаменитый Странноприимный дом, ныне институт имени Склифосовского.
В нем должны были содержать в богадельне сто человек неимущих и увечных, в больнице под этой же крышей — лечить пятьдесят человек бесплатно. Кроме того, на выдачу замуж неимущих и осиротевших девиц попечительному совету полагалось выделять ежегодно 6 тысяч рублей, «на вспоможение лишенных необходимого в жизни продовольствия и скудность притерпевающим семействам всякого состояния — 5 тысяч рублей». Наконец, на «восстановление обедневших ремесленников через снабжение их потребными для работы инструментами и материалами — 4 тысячи рублей…».
Прасковьей Ивановной Жемчуговой — великой крепостной певицей восхищались императрица Екатерина II и князь Потемкин, Павел I и Александр I, музыкант Кордона, архитектор Кваренги и художник Аргунов… Для широкой публики ее талант был недоступен, потому что она всю жизнь принадлежала, как вещь, «Крезу младшему», графу Шереметеву, находившемуся в двойном родстве с царями.
Он ее не просто любил. Уважал. Преклонялся. Не стыдясь это показать. Потому и пытался отстоять ее достоинство в письме к графу Строганову, признавая, что великое дело, которым восхищались современники, придумано не им, а женщиной, крепостной, хоть и ставшей за три года до смерти его законной женой, правда тайной. Официально она числилась отпущенной на волю актрисой.
Удивительный звук взметнулся из-за двери, мимо которой проходил граф. Голос? Не мужской, не женский. Серебряный, как переливы аглицких часов. Как звон весенней капели. Голос, прозрачный в своей чистоте и свежести, высокий и свободный. Точно соловей заливался в саду на радость себе и всему миру…
Граф не мог сбросить сковавшего его очарования, пока не замерла странная песня без слов. Потом рывком отворил дверь в апартаменты тетушки, княгини Марфы Михайловны, низенькие, убранные по-старинному комнаты на антресолях Большого дома. Глаза его обежали залу тревожно и взволнованно. Где то существо, что пленило его настолько, что он забыл, куда и зачем шел?!
На низенькой скамейке возле выложенной голландскими изразцами печи сидела дворовая девочка в голубом сарафане и красном платочке. Торчали две косички, как заячьи уши. Нос был короткий, остренький, глаза ее, косого разреза, наружными углами протянутые к вискам, моргали тревожно, как у зайца, когда он чуял приближение охотника.
Кто же здесь пел?
Граф стремительно шагнул вперед. Анфилада жарко натопленных комнат была пуста. Только смешная девочка встала, когда он подошел ближе. Кукла, свернутая из шейной косынки, упала наземь. На маленьком лице лихорадочно сменялись разные выражения: растерянность, смятение, смущение, любопытство. Воспитанница тетушки? Но в таком наряде?
Граф не умел разговаривать с детьми. Они его утомляли, казались похожими на обезьянок, шумных, проказливых и упрямых…
— Кто пел? — спросил резко, отрывисто.
Темные глаза девочки сощурились, точно она смотрела на солнце, брови причудливо изломились. Она стала еще больше походить на зайчонка, графу показалось, что он даже слышит, как пугливо колотится ее сердце.
— Я-а-а… — прозвучало чуть слышно. Но голос зазвенел звучно и полно, как несколько мгновений назад. Она покраснела под его взглядом, щеки почти слились по цвету с красным платочком на голове. Руки девочки, тонкие и нервные, дергали, теребили край сарафана, но глаза она не опускала, не моргала, только ноздри дрожали и брови кривились сильнее.