На другой день - [5]
— Мама, он пришел за другим!
Мария Николаевна и сама знала, что за другим. Но если за другим, то обязательно истошные выкрики? Ох, нервы! Они у невестки, как оголенные провода, к ним нельзя прикоснуться… Зачем именно пожаловал человек, старушка надеялась выведать. Пойдет провожать за калитку и осторожненько спросит, где и с кем он служил; если знает Виктора, отпираться не станет.
— Я с ним поговорю! — вдруг угрожающе заявила Людмила. Быстро обтерла платком сухие губы, глаза.
— Люся, без грубостей, — предупредила свекровь. Она опасалась за невестку: поскандалит опять, как с Абросимовым. — Видишь, человек во всем военном, только без погонов, без звездочек…
Людмила посмотрела на нее удивленно.
— …даже фуражка с черным околышем, артиллерийская… — Мария Николаевна умолкла, потому что Галочка, а за нею и Дружинин возвращались в дом.
— Все ясно, товарищи! — сказал он с подчеркнутой бодростью. Коренастый и плотный, приглаживая русые с сединой на висках волосы, осторожно ступил на ковер. — Нужен большой и срочный ремонт; это и в ваших интересах, и в интересах…
— А вы сядьте, — прервала его Людмила, уже сидевшая за столом. Медленно отодвинула в сторону графин с водой, машинальным движением руки поправила скатерть.
Взгляды ее и Павла Ивановича встретились. И по тому, как не мигая смотрели широко раскрытые глаза женщины, Дружинин сообразил, что его разгадали, надо во всем признаваться.
Сначала Людмила сидела молча, в оцепенении. Человек, которого она вспомнила по фотографиям-миниатюрам, по мужниным письмам с фронта, рассказывал ей о живом Викторе, его героизме, а сознание, сознание почти не усваивало того, что он говорил. Перед глазами возникали картины, одна страшнее другой: как Виктор падал, сраженный чем-то острым и жгучим, как, медленно холодея, закрывались его глаза. Мало-помалу осторожность рассказчика, издалека подходившего к главному, трагическому — умом Людмила понимала, что это щадящая ее осторожность, — становилась невыносимой. И она сказала:
— Вы о другом, о другом…
Павел Иванович и сам уже понимал, что пора о другом, главном, что, если вынесен приговор, оттяжка с его исполнением равносильна пытке. И подумал еще: умереть, в сущности, просто, куда сложней жить; жизнь чертовски сложна, если она может поставить человека вот в такое трудное, неимоверно трудное положение.
— Немцы умышленно не взорвали за собой мост. Они рассчитывали поднять нас на фермах: не разберутся, мол, русские в пылу наступления, пойдут, и тут им будет могила. И мы пошли. Мы знали о замышленном коварстве. Нам нужно было пусть горстью бойцов, но зацепиться за левый берег, удержаться там хотя бы до вечера, вечером подойдут стрелковые части, саперы, основное — саперы, они наведут переправу и пропустят армию на плацдарм. И точно так, как было рассчитано, по мосту успела пройти лишь часть самоходок с головной, командирской. Интервал — и мины замедленного действия свалили фермы моста.
— Вы остались на этом берегу? — исподлобья взглянула Людмила.
— На этом, — смущенно подтвердил Дружинин. Он понял ее намек. — Я замыкал колонну, такой был приказ его, командира… — Он мог бы многое сказать в свое оправдание, например: замполит и обязан был находиться за боевыми порядками, и командир-то, будь он менее смел и горяч, не заскочил бы вперед. Но какой смысл в объяснениях, разве они уменьшат горе вдовы? Дружинин готов был признать себя виноватым уже в том, что не умер тогда вместе с командиром полка хотя бы от случайно настигнувшей пули.
— Потом, потом что было? — нетерпеливо спросила Людмила.
— Подошли пехота и танки, не оказалось саперов — застряли где-то в ближнем тылу… — Вся беда была в этом, опоздали саперы, всех подвел их нерасторопный ли, поздно ли получивший приказание командир. Но опять же: зачем это охваченной горем женщине? — Пробовали навести переправу подручными средствами, немецкая артиллерия топила наших солдат.
— Потом?
— Вечером майор радировал мне с плацдарма: «Дерусь, об отходе не может быть речи», — но в полночь у них вышли боеприпасы, и он приказал: «Огонь на меня».
— По своим? — Пальцы Людмилы побежали по скатерти, собирая ее в складки.
— И по своим, — глухо сказал Павел Иванович. Голос его делался глухим каждый раз, когда он сдерживал волнение. Теперь еще не хватало воздуха; горло и рот давно пересохли, просить воды не решался. — В это время на плацдарме началась рукопашная.
— Потом? Потом?
Дружинин справился наконец со своим волнением, встал из-за стола.
— Потом саперный батальон подошел, подоспели орудия большой мощности, гвардейские минометы — все, что надо для дальнейшего наступления… — Он сделал резкий вздох. — И если вы представляете, что такое девяносто стволов на участке фронта в каких-нибудь четыреста метров, вы поймете, что с ними сталось. Рано утром мы переправились через Одер и потом уже не останавливались до предместий Берлина.
— Он остался там?
— Там.
Людмила не выдержала, заплакала. Павел Иванович попытался успокаивать ее, она отвернулась и закрыла ладонями лицо. И Дружинин понял, что уговоры его не помогут, что Людмиле неприятно, невыносимо его присутствие; он поговорил еще на кухне с Марией Николаевной, сторожившей Галю (та бегала с подружками во дворе), и попрощался, ушел. Ушел разбитый, раздавленный.

В книгу «Из глубин памяти» вошли литературные портреты, воспоминания, наброски. Автор пишет о выступлениях В. И. Ленина, А. В. Луначарского, А. М. Горького, которые ему довелось слышать. Он рассказывает о Н. Асееве, Э. Багрицком, И. Бабеле и многих других советских писателях, с которыми ему пришлось близко соприкасаться. Значительная часть книги посвящена воспоминаниям о комсомольской юности автора.
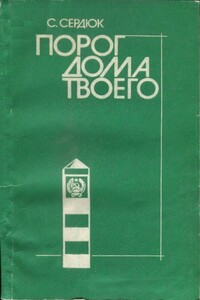
Автор, сам много лет прослуживший в пограничных войсках, пишет о своих друзьях — пограничниках и таможенниках, бдительно несущих нелегкую службу на рубежах нашей Родины. Среди героев очерков немало жителей пограничных селений, всегда готовых помочь защитникам границ в разгадывании хитроумных уловок нарушителей, в их обнаружении и задержании. Для массового читателя.

«Цукерман освобожденный» — вторая часть знаменитой трилогии Филипа Рота о писателе Натане Цукермане, альтер эго самого Рота. Здесь Цукерману уже за тридцать, он — автор нашумевшего бестселлера, который вскружил голову публике конца 1960-х и сделал Цукермана литературной «звездой». На улицах Манхэттена поклонники не только досаждают ему непрошеными советами и доморощенной критикой, но и донимают угрозами. Это пугает, особенно после недавних убийств Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Слава разрушает жизнь знаменитости.

Когда Манфред Лундберг вошел в аудиторию, ему оставалось жить не более двадцати минут. А много ли успеешь сделать, если всего двадцать минут отделяют тебя от вечности? Впрочем, это зависит от целого ряда обстоятельств. Немалую роль здесь могут сыграть темперамент и целеустремленность. Но самое главное — это знать, что тебя ожидает. Манфред Лундберг ничего не знал о том, что его ожидает. Мы тоже не знали. Поэтому эти последние двадцать минут жизни Манфреда Лундберга оказались весьма обычными и, я бы даже сказал, заурядными.

Эта повесть о дружбе и счастье, о юношеских мечтах и грезах, о верности и готовности прийти на помощь, если товарищ в беде. Автор ее — писатель Я. А. Ершов — уже знаком юным читателям по ранее вышедшим в издательстве «Московский рабочий» повестям «Ее называли Ласточкой» и «Найден на поле боя». Новая повесть посвящена московским подросткам, их становлению, выбору верных путей в жизни. Действие ее происходит в наши дни. Герои повести — учащиеся восьмых-девятых классов, учителя, рабочие московских предприятий.

Июнь 1957 года. В одном из штатов американского Юга молодой чернокожий фермер Такер Калибан неожиданно для всех убивает свою лошадь, посыпает солью свои поля, сжигает дом и с женой и детьми устремляется на север страны. Его поступок становится причиной массового исхода всего чернокожего населения штата. Внезапно из-за одного человека рушится целый миропорядок.«Другой барабанщик», впервые изданный в 1962 году, спустя несколько десятилетий после публикации возвышается, как уникальный триумф сатиры и духа борьбы.