Мытарства - [4]
Трактиръ, въ который мы пришли, былъ, какъ и всѣ трактиры на Хивѣ, грязный, вонючій, переполненный золоторотцами…
Крикъ, шумъ, отборныя ругательства неслись со всѣхъ сторонъ… Дымъ махорки ѣлъ глаза… Лампы горѣли, какъ будто окруженныя туманомъ… Люди — оборванные, грязные, испитые, страшные, пили, ѣли, ругались, бѣгали, кружились, какъ будто въ какомъ-то водоворотѣ…
Мнѣ стало жутко… Тоска, какъ клещами, сдавила сердце.
— Бѣжать отсюда!… Но куда? Куда въ такомъ костюмѣ?.. Кому я нуженъ?..
Я съ отчаяніемъ и съ какой-то злобой принялся пить купленную старикомъ водку, думая заглушить этимъ боль сердца…
Съ каждымъ стаканомъ въ головѣ у меня мутилось все больше и больше… Передъ глазами мелькали какіе-то разноцвѣтно-яркіе кружочки, часто-часто, до боли… Въ вискахъ стучало… Сердце готово было выпрыгнуть вонъ… Къ горлу подступали и душили непрошенныя слезы…
Опомнился я и нѣсколько пришелъ въ себя только уже на свѣжемъ воздухѣ, когда мы, вмѣстѣ съ другими людьми, шли по улицѣ въ гору, мимо части, къ Ляпинскому ночлежному дому…
IV
У подъѣзда этого дома, подъ навѣсомъ и дальше по тротуару, по порядку, «въ затылокъ» стояла толпа человѣкъ въ 500, ожидая когда отворятся двери…
Мы остановились въ хвостѣ этой ленты и стали ждать…
Пронзительно-жгучій морозный вѣтеръ дулъ прямо въ лицо и пронизывалъ до костей… Люди жались другъ къ другу, корчились, топотали ногами, ругались, проклиная тѣхъ, кто такъ долго не отворяетъ дверей…
Такъ пришлось стоять около часу… Весь хмѣль слетѣлъ съ меня… Я положительно замерзалъ… Все тѣло тряслось, какъ въ лихорадкѣ… Зубы выколачивали дробь… Малый въ жилеткѣ, стоявшій впереди меня, скорчился въ дугу и, какъ мнѣ казалось, тихонько плакалъ… Стоявшій позади старикъ кряхтѣлъ и ругалъ какого-то племянника скверными словами…
Наконецъ двери отперли… Толпа зашумѣла и, толкаясь, хлынула туда, какъ лавина… Вмѣстѣ съ другими я очутился въ огромной полутемной «камерѣ»… Двойныя нары занимали ее всю, оставляя узкіе проходы около стѣнъ и посрединѣ… Черный, сводчатый потолокъ мрачно висѣлъ надъ головами, придавая необычайно угрюмый и дикій видъ всей обстановкѣ…
Необыкновенно гулкій, какой-то странный, хаотическій шумъ и гамъ несся со всѣхъ сторонъ… Мнѣ слышались въ этомъ шумѣ звуки музыки, лай собакъ, звонъ, смѣхъ, плачъ, отрывистые возгласы и ругательства, отдаленные крики, шарканье множества ногъ по чугунному полу…
Дверь, безпрестанно визжа и хлопая, отворялась, впуская все новыхъ и новыхъ ночлежниковъ… Люди испитые, полуодѣтые, молодые, старые и совсѣмъ дѣти, ругаясь, толкаясь, крича, спѣшили занять мѣста на нарахъ. Что-то страшное, звѣриное было въ этой общей свалкѣ за обладаніе мѣстомъ… Вскорѣ всѣ мѣста на нарахъ были заняты, а люди все шли и шли… Стали ложиться на полу, въ проходахъ, полѣзли подъ нары… Крикъ и гамъ усиливался съ каждой минутой и, наконецъ, слился во что-то хаотически-страшное…
Двери заперли, наконецъ, и не стали больше пускать… Да и некуда было пускать, такъ какъ вездѣ, гдѣ можно было приткнуться и лечь, все было занято…
Воздухъ сталъ удушливо-тяжелъ… Лампа едва горѣла, окруженная туманомъ… Всюду: на нарахъ, на полу, подъ нарами, вспыхивали огоньки папиросъ… Курили махорку, и дымъ этотъ, разъѣдавшій глаза, сплошной, удушливой волной плавалъ по «камерѣ»…
Пораженный всѣмъ этимъ, я сидѣлъ и думалъ, что вижу все это не на яву, а во снѣ… До того странна, дика, безобразно ужасна казалась мнѣ вся эта, невиданная мною до сихъ поръ, картина человѣческаго униженія.
Нары были раздѣлены, какъ лошадиныя стойла, желѣзными переборками, такъ что, когда я легъ, то голова и половина туловища скрылись въ этомъ стойлѣ, другая же часть тѣла оказалась наружи…
Я легъ навзничь, положивъ голову на покатую желѣзную подушку, похожую на монастырское «возглавіе», и сталъ слушать…
Волна общаго, сплошного гудящаго шума мало по малу начала стихать… Стали слышны отдѣльные разговоры, смѣхъ, ругательства, вскрикиванья…
Мнѣ захотѣлось покурить… Я сѣлъ въ своемъ стойлѣ и заглянулъ въ другое, черезъ переборку, налѣво. Тамъ лежалъ на спинѣ, закинувъ руки за голову, костлявый, сухой мужчина… Его тонкія, длинныя руки были голы… Грубая, сѣрая, рваная рубаха висѣла клочьями… Очевидно, его сильно донимали насѣкомыя, потому что онъ ерзалъ какъ-то всѣмъ тѣломъ по нарамъ и сильно, точно опоенная лошадь, хрипѣлъ, тяжелымъ астматическимъ хрипѣніемъ… Я глядѣлъ на него, и онъ тоже, съ своей стороны, уставился на меня широко открытыми, мутными, страшными глазами… Потомъ поднялъ руку, прохрипѣлъ что-то и вдругъ страшно и дико закричалъ, забился всѣмъ тѣломъ, какъ подстрѣленная птица, въ припадкѣ падучей болѣзни…
Ужасъ охватилъ меня… Я хотѣлъ вскочить и бѣжать, но не могъ, — точно меня кто приковалъ къ мѣсту… Бѣлая пѣна клочьями показалась изъ его рта… Онъ страшно хрипѣлъ и бился… Лицо у него сдѣлалось черно-багровое и какое-то невыразимо ужасное…
— Ишь его черти схватываютъ!.. — услыхалъ я вдругъ позади себя голосъ и, оглянувшись, увидалъ молодого, лѣтъ 17-ти мальчишку съ отталкивающе-нахальнымъ лицомъ и съ папироской въ зубахъ… — Нажрется винища-то, дьяволъ! Ткни ему въ морду-то!. Покою отъ него нѣтъ…
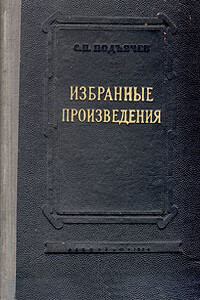
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.
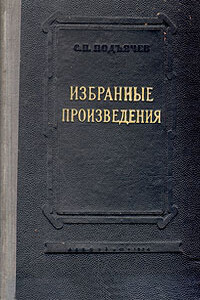
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести „Мытарства“, „К тихому пристанищу“, рассказы „Разлад“, „Зло“, „Карьера Захара Федоровича Дрыкалина“, „Новые полсапожки“, „Понял“, „Письмо“.Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.

ПОДЪЯЧЕВ Семен Павлович [1865–1934] — писатель. Р. в бедной крестьянской семье. Как и многие другие писатели бедноты, прошел суровую школу жизни: переменил множество профессий — от чернорабочего до человека «интеллигентного» труда (см. его автобиографическую повесть «Моя жизнь»). Член ВКП(б) с 1918. После Октября был заведующим Отделом народного образования, детским домом, библиотекой, был секретарем партячейки (в родном селе Обольянове-Никольском Московской губернии).Первый рассказ П. «Осечка» появился в 1888 в журн.
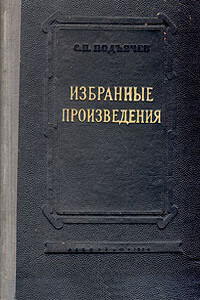
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.
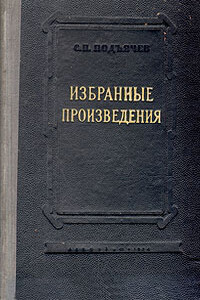
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.
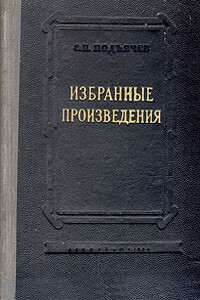
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) - русский писатель и публицист, по словам современников, соединивший человека и природу простой сердечной мыслью. В своих путешествиях по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме путевых очерков. О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: "Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное - и вышла книга "В краю непуганых птиц", за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».