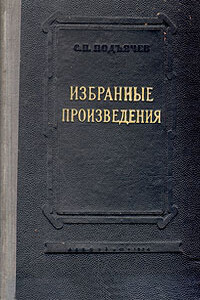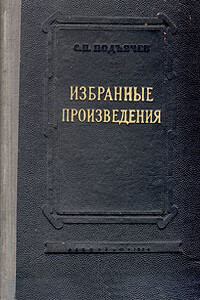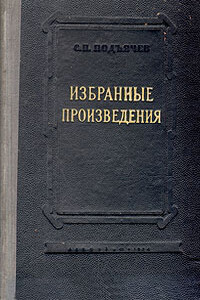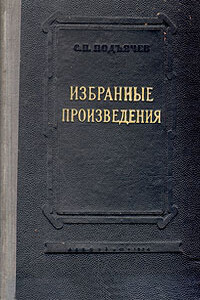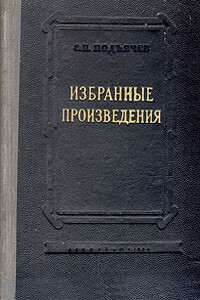Проснувшись утромъ, я не нашелъ своей шапки: пока я спалъ, ее успѣли украсть… Шапка была хорошая, и мнѣ стало ее жаль, а главное, досадно было то, что придется щеголять въ казенномъ блинообразномъ, кругломъ арестантскомъ картузѣ.
Выбравшись изъ-подъ наръ, я увидалъ, что разсвѣтаетъ. Въ окна слабо проникалъ свѣтъ тусклаго зимняго утра… какой-то сѣроватый смрадъ, отъ котораго щекотало въ горлѣ и трудно было дышать, стоялъ въ камерѣ… Большинство арестантовъ еще спало, разметавшись по нарамъ во всевозможныхъ позахъ… Нѣкоторые лежали, почти совсѣмъ нагіе, въ однѣхъ грязныхъ, худыхъ рубахахъ; изъ-подъ наръ высовывались ноги; отовсюду шелъ храпъ, стонъ, какія-то непонятныя вскрикиванья… Нѣкоторые во снѣ неистово драли ногтями обнаженное тѣло, стараясь избавиться отъ насѣкомыхъ, кишмя кишѣвшихъ на нарахъ…
Дверь въ корридоръ отперли… Застучали чайниками… Счастливцы стали пить «цыку» [2]. Протащили на палкѣ вонючую «парашку»…
Я пошелъ въ корридоръ и сказалъ надзирателю, что у меня украли шапку.
— Ладно, — сказалъ онъ, окинувъ меня злымъ взглядомъ, — я скажу старостѣ… Чего-жъ ты глядѣлъ, дурья голова!..
Я опять пошелъ въ камеру. Люди лѣниво поднимались со своихъ логовищъ. Многіе пили «цыку», сидя на нарахъ по-турецки: большинство-же лежало, вѣроятно, не зная для чего вставать… Нѣкоторые, сидя на нарахъ поближе къ окнамъ, нагіе, давили въ рубахахъ насѣкомыхъ. Какой-то сѣдой съ нависшими бровями, курносый старикъ молился, читая вслухъ молитву. «Отврати лицо твое отъ грѣхъ моихъ, и вся беззаконія моя очисти. Сердце чисто созижди во мнѣ, Боже, и духъ правъ обнови во утробѣ моей», — громко говорилъ онъ, и странно какъ-то звучали эти слова въ этой неподходящей обстановкѣ.
Лампочку загасили. Съ каждой минутой въ камерѣ становилось свѣтлѣе, и этотъ свѣтъ придавалъ ей какой-то еще болѣе тяжелый, безотрадно-ужасный видъ. Жалко было глядѣть на людей, доведенныхъ до послѣдней степени униженія. загнанныхъ въ это гадкое помѣщеніе подобно скотамъ, брошенныхъ, никому не нужныхъ, оставленныхъ всѣми…
— Эй!… У какого тутъ чорта шапка пропала?! — закричалъ вдругъ на всю камеру староста, входя изъ корридора въ дверь — Говори, что-ли!..
— У меня пропала! откликнулся я и подошелъ къ нему.
— У тебя? — переспросилъ онъ, окинувъ меня злыми глазами, — ты жаловаться, сволочь!… Ну, ладно, — добавилъ онъ, помолчавъ, — смотри, коли найду здѣсь ее, всю морду тебѣ разобью!… Самъ, небось, засунулъ куда-нибудь, да на людей сваливаетъ… сволочь!
— Чего-жъ ты лаешься-то? — ничего не понимая, спросилъ я.
— У-у-у, поговори еще! — закричалъ онъ и скрипнулъ зубами, — чортъ! Обыскъ теперь изъ-за тебя дѣлать, что-ли?.. Шапка его пропала!… невидаль! Чай не сто рублей стоитъ…
Ругаясь и грозя, онъ отошелъ отъ меня прочь. Не понимая, что это значитъ, я сѣлъ на край наръ, въ ногахъ у какого-то человѣка, лежавшаго навзничь, наблюдавшаго за мной, и, недоумѣвая, вопросительно взглянулъ на него. Онъ поймалъ мой взглядъ, поднялся, сѣлъ, поджавъ ноги калачикомъ, и, улыбнувшись, сказалъ:
— Что, братъ, вляпался?.. Вотъ тебѣ и шапка!
— Чего онъ ругается? — спросилъ я.
— Ругается-то что? — переспросилъ онъ. — Эхъ, ты чудакъ!… Мелко плаваешь — спину видно… Я тебѣ вотъ что скажу, по душамъ: иди ты къ надзирателю, скажи: нашелъ, молъ, шапку… А то плохо, братъ, тебѣ будетъ.
— А что?
— Да то, что надзиратель скажетъ еще кое кому, придутъ съ обыскомъ… Шапку твою все одно не найдутъ, а еще кое-что неладное найдутъ… Ну, и того… понялъ?..
— Понялъ! спасибо, что научилъ, — отвѣтилъ я и пошелъ опять въ корридоръ заявить, что шапка нашлась.
Когда я возвратился снова въ камеру, то увидалъ, что староста слѣдитъ за мной.
— Ну что, нашелъ шапку?! — крикнулъ онъ.
— Нашелъ! — отвѣтилъ я.
— Ну, то-то… А говорилъ: пропала… Сволочь!… Въ морду васъ чертей надо, дурачье!… Деревня необузданная!.
Невыносимо долго тянулось время. Дѣлать было положительно нечего. Отъ толкотни, шума и смрада кружилась голова, ныло сердце и брала досада на то, что попросился съ дуру на этотъ «вольный этапъ»…
Судя по разговорамъ, которые мнѣ удалось услыхать, я понялъ, что отсюда не скоро вырвешься…
Тоска грызла меня. Не находя мѣста, я бродилъ по камерѣ, приглядываясь къ людямъ и слушая разговоры… Не веселы были люди, не веселы и разговоры!… Всѣ томились и ждали своей участи, ждали, когда погонятъ въ тюрьму, а изъ тюрьмы — кого этапомъ домой, на родину, кого въ Сибирь, и т. д…
— Въ тюрьмѣ много лучше, — слышалъ я не одинъ разъ, — тамъ чистота… лапшой кормятъ… а здѣсь что? — каторга!… не жрамши, издохнешь!..
И правда, тяжело было сидѣть здѣсь!… Тѣсно, грязно, голодно, а главное, невыносимо скучно безъ дѣла.
* * *
Получивъ пайку хлѣба, хлебнувъ ложки двѣ-три похлебки, я полѣзъ подъ нары, мысленно махнувъ на все рукой, думая, что придетъ, наконецъ, время и сдѣлаютъ же насчетъ меня какое-нибудь распоряженіе…