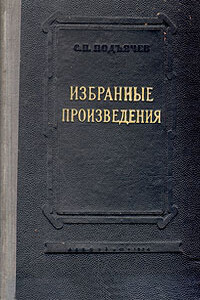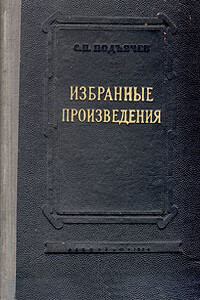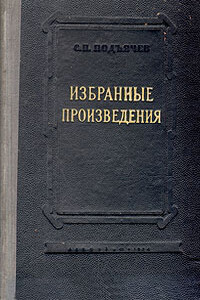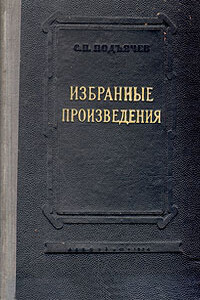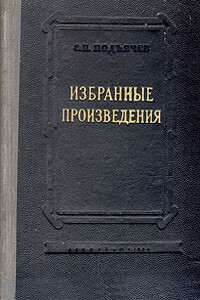— Ну и что же?
— Велѣлъ приходить завтра заниматься… а, что? ловко вѣдь?!
— Слава Богу.
— Только жалованье, понимаете, б-ррры!..
— Сколько?
— А вы никому не скажете?
— Нѣтъ…
— Три копѣйки въ день! — воскликнулъ онъ, какъ трагическій актеръ. — А?.. хорошо!… Вы вникните: три копѣйки!..
— Ну что-жъ и то ладно… поживете, прибавятъ… Харчи готовые…
— Да вѣдь надо жить здѣсь три года, чтобы скопить на приличный костюмъ!… Харчи, вы говорите… Чортъ ихъ возьми съ ихними харчами: я не знаю, обѣдалъ я, напримѣръ, сейчасъ или нѣтъ? Впрочемъ, навѣрно писарей лучше кормятъ… Какъ вы думаете?..
— Не знаю.
— А что это за чортъ съ вами вчера рядомъ спалъ? Что онъ — бѣшеный, что-ли, или декадентъ какой? Лицо такое идіотское!..
— Богъ его знаетъ!
— Дуракъ, очевидно… Покурить не раздобылись?
— Гдѣ-же?..
— Плохо!… Знаете что — я пойду въ контору, попрошу тамъ у кого-нибудь изъ писарей табачку въ счетъ будущихъ благъ…
Онъ ушелъ… Я вышелъ на крыльцо и, облокотившись на перила лѣстницы, сталъ глядѣть на «чередъ» идущихъ съ другого крыльца въ столовую обѣдать.
Два какихъ-то субъекта, одинъ пожилой, корявый, съ огромнымъ краснымъ носомъ и толстыми губами, другой — молодой, худой и длинный, съ наглыми на выкатѣ глазами и съ какой-то странной, точно выщипанной бороденкой, ростущей не такъ, какъ у людей, а какъ-то чудно, какими-то рыжевато-бурыми клочьями тамъ и сямъ, — стояли на нижнихъ ступенькахъ лѣстницы и разговаривали… Говорилъ собственно одинъ молодой, а пожилой только поддакивалъ да смѣялся… Отъ нечего дѣлать я сталъ слушать.
— Спрашиваетъ она у меня, — говорилъ молодой, продолжая раньше начатый разговоръ, котораго я не слыхалъ. — «Гдѣ же вы живете?» — Возлѣ рѣчки, возлѣ мосту, — говорю ей, — сударыня-съ… «Какъ же такъ?» — Да такъ-съ… У меня домовъ, какъ у зайца ломовъ… «Ахъ, бѣдный, бѣдный!… тяжело вамъ, я думаю?» — Чтожъ дѣлать, сударыня-съ, Господь терпѣть велѣлъ… «Ну, а чѣмъ же вы занимаетесь»? — Выхожу одинъ я на дорогу, сударыня-съ…
— Го, го! — заржалъ пожилой, — это ты ловко… ну?..
— Ну и того… тары бары, на двѣ пары… то се, пято десято… Вижу, барыня дура… Сударыня, говорю, явите Божескую милость, не дайте душѣ хресьянской замерзнуть, позвольте ночевать?.. А паспорта у меня, понимаешь, нѣтъ… Думаю: ну, какъ спроситъ? нѣтъ, не спросила… «Ночуйте, ночуйте, голубчикъ», говоритъ… И все, понимаешь, на «вы» со мной… Потѣха!..
— Го, го, го! — опять заржалъ пожилой, — вотъ такъ вы!… вы!… ахъ чтобъ тебя!.,
— Ладно… Положили меня въ людской… Вижу, народу нѣтъ никого… одинъ кучеръ, да и тотъ пьяный спитъ безъ заднихъ ногъ… Масляница: народъ, извѣстно, гуляетъ… Ладно… Ночью я, не будь дуракъ, снялъ съ себя одѣяніе свое стрѣлецкое, нарядился въ кучеровъ пиджакъ… валенки съ печки снялъ, полушубокъ… айда!… наше вамъ почтеніе!… Живо до города десять верстъ отмахалъ… у Сычихи ночевалъ… утромъ съ Володькой борзымъ все и пропили…
— Ловко!… ха, ха, ха! Вотъ, чай, барыня-то?.. «голубчикъ, голубчикъ… «вы»… вотъ те «вы»… Го, го, го!..
Когда всѣ отобѣдали, я опять вошелъ въ столовую и хотя съ трудомъ, но все-таки разыскалъ себѣ мѣстечко въ углу на кончикѣ скамьи за однимъ изъ столовъ, твердо рѣшивъ не сходить съ него до вечера.
Облокотившись на столъ, я задумался, глядя на шумѣвшую, какъ пчелиный рой, толпу людей, и долго сидѣлъ такъ… Мнѣ стало грустно и стыдно, — что я допустилъ себя до всего этого и не имѣю теперь возможности уйти… Сердце мучительно ныло, когда я мысленно переносился домой, въ кругъ своихъ близкихъ, родныхъ…
Голосъ слѣва, раздавшійся такъ рѣзко, что я вздрогнулъ, надъ самымъ моимъ ухомъ, вывелъ меня изъ задумчивости.
— Землячекъ, а, землячекъ, ты чего это носъ-то повѣсилъ?..
Я обернулся и увидалъ какое-то квадратное, обросшее рыжими волосами, улыбающееся лицо стараго мужика. Глаза у него какъ-то странно, точно онъ игралъ ими, то закатывались кверху подъ лобъ, оставляя одни только бѣлки, то сурово спускались внизъ, при чемъ рыжія, необыкновенно густыя брови свирѣпо хмурились… Толстыя красныя губы улыбались и какъ-то смѣшно оттопыривались подъ самый носъ — маленькій и сизый, похожій на грецкій орѣхъ…
Онъ повторилъ свой вопросъ и, видя, что я не отвѣчаю, заговорилъ снова.
— Тебя какъ звать-то?.. Брось думать-то! Э, милый, всѣ мы люди и всѣ человѣки: съ кѣмъ грѣхъ да бѣда не бываетъ… Пройдетъ все… опять на дѣло поступишь: ты человѣкъ, вижу я, не глупый… Не вѣшай головы, не печаль гостей!… Пропился, знать, ась?
И, видя, что я опять не отвѣчаю, онъ продолжалъ:
— Всѣ мы такъ-то… не одинъ ты… Эва народу што, а спроси у любого, какъ, молъ, сюда попалъ? — по пьяному дѣлу!… Всѣ мы по пьяному дѣлу… Просты мы ужъ очень… слабы… къ вину предвержены… Женатъ?..
— Женатъ.
— А зять есть?
— Нѣтъ, зятя нѣту.
— Нѣту?.. говори слава Богу…
— Что-жъ такъ?
— А такъ… зять, я тебѣ прямо, милый, атлепартую: ядовитая штука… особливо богатый… заноза!… Я, можетъ, черезъ зятя-то и пропадаю…
— Какъ такъ?
— А такъ… ты слушай… Ты мнѣ вотъ человѣкъ чужой, впервой тебя вижу, а душа у меня къ тебѣ лежитъ… родные-то нонче хуже чужихъ… Опять и такъ сказать: понятія у нихъ нѣтъ, т. е. насчетъ хоть бы вотъ нашего брата… По ихнему пропился — и больше ничего, никакой къ человѣку жалости нѣтъ… Хоть издохни!… «Такъ и надо, скажутъ, за дѣло»… Видно, кто въ этой шкурѣ не бывалъ, на морозѣ не дрогъ, тотъ нашего брата постигнуть и понять не можетъ… потому — душа зачерствѣла… Говорится пословица: окрѣпнетъ человѣкъ — крѣпше камня, ослабнетъ — слабже воды… По Христову ученью какъ? знаешь?.. прощай человѣка во всемъ, несчетное число разъ прощай, а они разу не простятъ… зачерствѣли!..