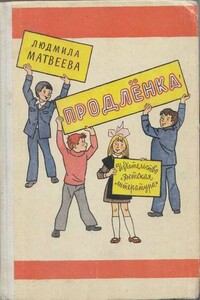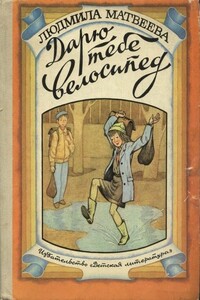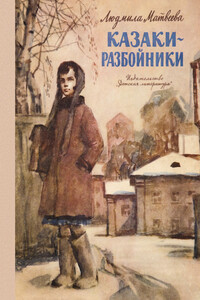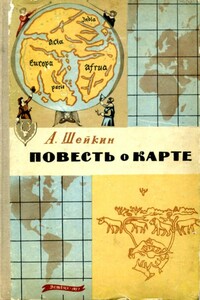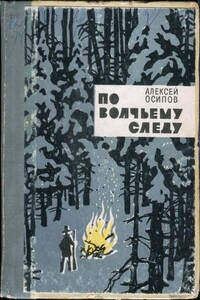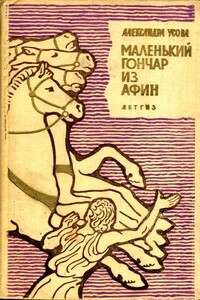В тот вечер ветер нёсся по улицам, гремел обшивками балконов, нёс целую газету впереди прохожего. Мне казалось, что Максим тоже должен любить ветер. Такой живой, быстрый мальчик. Но в тот вечер он, оказывается, хотел тихой погоды и вообще побольше спокойствия. Генриетта была привязана на чердаке.
Когда пришла ночь, ветер вдруг утих, сразу прекратился треск и вой. Неправдоподобно тихо вдруг стало, так тихо редко бывает в нашем большом беспокойном городе.
И холодные ветки не шуршали, и форточки не хлопали — ни одного звука не было слышно.
Давно погасли одна за другой все лампы в окнах, уснул дом. Убаюкал его ветер, а тишина сделала сон глубоким и безмятежным.
Спали ученики пятого класса. Спали совсем маленькие дети, и взрослые спали. И молодые и пенсионеры. Отступили заботы, пришли тихие сны. Как хорошо. Даже машины не ездили по улице. Только впустую меняли бесшумно огни светофоры. Когда нет машин и прохожих, эти огни никому не нужны. Но светофорами управляет автоматика, а она никогда не спит…
И вдруг во дворе раздался страшный громкий хохот. Он разнёсся по всем квартирам сразу. Он влетел в открытые форточки. И пробился сквозь закрытые. Он отразился от стены высокого дома-башни и полетел к дому напротив. Громкие зловещие звуки в полной ночной тишине.
Первым вскочил с постели пенсионер Каныкин. Он протёр глаза. Хохот продолжался. Каныкин накинул пальто прямо на ночную пижаму, смех во дворе нагло продолжался. Каныкин выбежал на свой балкон и зычным голосом крикнул в темноту:
— Хамство! Опять пэтэушник Берзин хулиганит!
От этого крика проснулись остальные жители дома. Стали зажигаться огни в окнах. Некоторые возмущались про себя: Берзин ещё летом замучил весь дом своей гитарой. Теперь, наконец, зима. Зимой гитар не бывает. Но этот смех и бандитский вой во дворе хуже всякой гитары.
Самые энергичные соседи выскакивали на балконы. Одни хотели поддержать пенсионера Каныкина. Они кричали:
— Берзин! Прекрати сейчас же!
Другие кричали ещё громче:
— Милицию вызвать надо!
Третьих разбудили первые и вторые.
Глубокая ночь. Свет в окнах. Сердитые громкие голоса. Тёмные встрёпанные фигуры на балконах. Зарвался пэтэушник Берзин, пора призвать его, наконец, к порядку.
Общественник Каныкин говорил об этом со своего балкона громко и внятно. Он давно привык выступать на разных собраниях в ЖЭКе.
Крепко спали в своих квартирах и ничего не слышали только два человека — Максим из пятого класса «В» и учащийся ПТУ номер девять Берзин.
Генриетта затосковала на чердаке. Незнакомое место. Там, в клетке, она не была привязана, и можно было метаться. К тому же в клетке рядом жил лисёнок, его было слышно и видно. Он тоже бегал по клетке, ел мясо, пил воду. Здесь Генриетта была совсем одна, привязанная за шею. Мальчик ушёл, может быть совсем. Никаких «завтра утром приду» Генриетта не понимала. Что она могла сделать в таком положении? Только одно — завыть и захохотать так, как это умеют делать только гиены. Она выла и хохотала от тоски и одиночества. Ей не нравился чужой тёмный чердак, чужие тёмные запахи. И даже пометаться туда-сюда было нельзя — поводок тянул за шею.
— Призовём к порядку! — бушевал Каныкин.
— Мы сами распускаем подростков! — кричал со своего балкона сантехник Черепенников. — Сами распускаем, а после сами возмущаемся.
У каждого в ту ночь нашлось что сказать.
Мама Максима тоже проснулась. Она послушала дикий смех, возмущённые голоса, потом включила свет, посмотрела на часы. Зевнула и сказала сама себе:
— По-моему, люди так не смеются.
Максим сразу проснулся от этих слов. И сразу же услышал вой и дикий хохот, крики во дворе и слово «милиция» и слово «хулиганство».
Гиена выла во весь свой громкий голос. Может быть, она звала Максима. По-другому звать гиены не умеют.
Он стал быстро натягивать рубашку, брюки.
— Куда? — всполошилась мама. — Ночь глухая.
— Поручение кружка юннатов, — забормотал сонный Максим. — Валерий Павлович… Кусок мяса… Очень нужно… И банку пустую…
Чтобы окончательно сбить маму со следа, он схватил ещё и виолончель. Ко всем несвязным словам он прибавил ещё:
— Срочная репетиция. Фестиваль юных музыкантов.
Такие отрывистые сообщения действуют на маму лучше всего. Они говорят о неимоверной занятости её сына. Ни дня не знает ребёнок, ни ночи — дела, дела. Пока мама пытается связать всё в осмысленную фразу, Максим берёт в холодильнике мясо и выбегает во двор.
Гиена сидела в углу чердака и при свете спички завыла ещё громче. А потом сразу захохотала трагическим смехом. Так может смеяться человек, если он хочет кому-нибудь подействовать на нервы своим очень неестественным и очень громким хохотом.
— Генриетта, Гена, успокойся. Ну что ты?
Он положил перед ней мясо. Она ела, стало тихо. Потом гиена пила воду из банки. Потом завыла опять.
В круглое окошко пробился серый рассвет, наступало утро.
Гиена рвалась с привязи.
— Что же нам делать? — Максим не мог принять решение.
Гиена продолжала рваться. Гвоздь в стене расшатался. А что было бы, если бы Максим проспал, а Генриетта вырвалась бы с чердака? У Максима по спине побежали мурашки.
Во дворе кто-то сказал:
— Мужчина плачет.