Мы не должны были так жить! - [11]
Замечу, что устойчивость почерка явилась одной из причин того, что я не могу согласиться с отрицательным мнением о графологии, согласно которому графология, так же как психоанализ, является лженаукой. Что в почерке человека должен как-то – пусть опосредовано – отразиться его характер, и что, следовательно, возможно по почерку не только идентифицировать индивидуальность писавшего (что практически широко применяется в криминалистике), но и узнать некоторые черты его характера и даже настроение в момент написания – как мне думается, не находится ни в каком противоречии с научным, материалистическим мировоззрением. Впрочем, я убедился в этом лично с несомненностью, а как именно, расскажу сразу здесь, в этом отступлении. Студентом, я прочитал в газете объявление графолога, предлагавшего за небольшую плату, высылаемую почтовыми марками – причем его ответ можно получить до востребования, не указывая своего имени, чем исключается возможность, что графолог может обмануть, предварительно получив информацию о личности писавшего – по почерку любого написанного на полстраницы текста, определить характер написавшего его. Я рискнул кроной (или двумя, не помню), и что же? Быстро получил ответ, в котором поразительно были не только нелицеприятно отмечены все отрицательные черты моего характера, как: торопливость, вспыльчивость, упрямство, влюбчивость, и т. п., но было указано также, что я способен к абстрактному мышлению, в особенности к математике, и хотя я люблю фантазировать, мечтать, мой ум больше аналитический, чем синтетический и так далее.
Но не только чистописание, которому тогда в школах придавалось большое значение (ведь пишущие машинки были еще редкостью, имелись лишь в больших конторах), и не только рисование, но и арифметика удавалась мне с трудом. Правда, не было задачи, которую я бы не понимал, не знал, каким путем решить ее. Но также не было почти случая, чтобы я в самом вычислении, в умножении, а тем более в делении, не сделал какую-либо ошибку. Вся проблема была в таблице умножения. Сколько крови она мне перепортила! Сначала мы заучивали «малую», до 9 × 10, а потом «большую», до 9 × 100. А я противился этой зубрежке. Но, ведь, например, на стихи память у меня была отличная, я быстро и прочно их запоминал, особенно те, которые нравились мне своим содержанием, ритмом, некоторые из них я помню до сих пор. Но запоминание цифр было мучительно. Пять лет учился я в начальной школе, и пять этих лет были сплошной мукой по арифметике и сплошным праздником по родному языку.
Нужно еще рассказать о наказаниях. В Чехии общепринятыми были тогда телесные, попросту битье. Детей били дома в семье, били в школе. За то, что я писал прямыми, а не косыми буквами, учитель бил меня по пальцам и ладоням линейкой, приговаривая: «Вот тебе, вот тебе, будешь писать как люди!» У нас дома на кухне висела трость – их специально продавали для битья детей. Но мне чаще всего перепадали просто сорвавшиеся в гневе шлепки, редко подзатыльники или пощечины, а уж в виде исключения как наказание за большой проступок, систематические удары этой злополучной тростью по мягкому месту.
Насколько мне помнится, я никак не мог усвоить школьную дисциплину. Полагалось проситься отвечать поднятием правой руки, а я порывисто соскакивал со скамьи, и без спроса вставлял свое слово. За это немало доставалось, случалось, что оставляли после уроков в классе, и в наказание еще заставляли бессмысленно переписывать целые страницы. Разумеется, этим все не кончалось. Дома мать стыдила, бранила, за «безнравственное» поведение. Повод к неприятностям давала и моя рассеянность, невнимательность к тому, что происходило во время уроков.
Кроме распроклятой арифметики, нелегко удавались и «побочные» предметы – рисование и пение. Мои рисунки были, как правило, ужасно замусолены, а, следовательно, браковались. А с пением было другое. Я почему-то невзлюбил учителя пения, и прямо-таки нарочно петь не желал. И хотя у меня был кое-какой музыкальный слух, я не развил вовсе своего голоса, а также не стал учиться играть. Но из этого не следует, будто я относился безразлично к музыке и пению. Глубоко в памяти у меня запали уже упомянутые вечерние часы, когда отец, бывало, поет и играет, – иногда даже из «Влтавы» Бедржиха Сметаны, или соло из какой-либо его оперы, – разве я не жил этими чудными звуками?
Если мои успехи в школе были всегда неважны, то мой кругозор за эти годы значительно расширился. Но прежде всего изменилась обстановка. В семье рос брат Рудольф, а позже родилась сестра Марта. Помню, что когда Рудольф достиг четырех-пяти лет, у него проявился тяжелый характер драчуна: заупрямится, войдет в ярость, бросается на пол, брыкается и колотит ногами, как лошадь, и зычно орет. Понятно, что в отношениях к младшему брату и сестре я выступал как совсем «взрослый». В дальнейшем у меня сложилось неодинаковое отношение к обоим. Мартичка, как ее все звали, пользовалась моим безграничным, безоговорочным покровительством. Рудольфика я порядком недолюбливал, может быть, за его непокорный характер, за упрямство, еще большее, чем мое собственное, за обиды, которые он, не стесняясь, наносил сестричке.

Это похоже на легенду: спустя некоторое время после триумфальной премьеры мини-сериала «Семнадцать мгновений весны» Олег Табаков получил новогоднюю открытку из ФРГ. Писала племянница того самого шефа немецкой внешней разведки Вальтера Шелленберга, которого Олег Павлович блестяще сыграл в сериале. Родственница бригадефюрера искренне благодарила Табакова за правдивый и добрый образ ее дядюшки… Народный артист СССР Олег Павлович Табаков снялся более чем в 120 фильмах, а театральную сцену он не покидал до самого начала тяжелой болезни.

Автор текста - Порхомовский Виктор Яковлевич.доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института языкознания РАН,профессор ИСАА МГУ Настоящий очерк посвящается столетию со дня рождения выдающегося лингвиста и филолога профессора Энвера Ахмедовича Макаева (28 мая 1916, Москва — 30 марта 2004, Москва). Основу этого очерка составляют впечатления и воспоминания автора о регулярных беседах и дискуссиях с Энвером Ахмедовичем на протяжении более 30 лет. Эти беседы охватывали самые разные темы и проблемы гуманитарной культуры.

«Константин Михайлов в поддевке, с бесчисленным множеством складок кругом талии, мял в руках свой картуз, стоя у порога комнаты. – Так пойдемте, что ли?.. – предложил он. – С четверть часа уж, наверное, прошло, пока я назад ворочался… Лев Николаевич не долго обедает. Я накинул пальто, и мы вышли из хаты. Волнение невольно охватило меня, когда пошли мы, спускаясь с пригорка к пруду, чтобы, миновав его, снова подняться к усадьбе знаменитого писателя…».
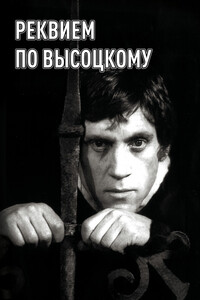
Впервые в истории литературы женщина-поэт и прозаик посвятила книгу мужчине-поэту. Светлана Ермолаева писала ее с 1980 года, со дня кончины Владимира Высоцкого и по сей день, 37 лет ежегодной памяти не только по датам рождения и кончины, но в любой день или ночь. Больше половины жизни она посвятила любимому человеку, ее стихи — реквием скорбной памяти, высокой до небес. Ведь Он — Высоцкий, от слова Высоко, и сей час живет в ее сердце. Сны, где Владимир живой и любящий — нескончаемая поэма мистической любви.

Роман о жизни и борьбе Фридриха Энгельса, одного из основоположников марксизма, соратника и друга Карла Маркса. Электронное издание без иллюстраций.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.