Мы не должны были так жить! - [9]
Мама лишь постепенно овладела правильным чешским языком, тем чистым, строгим, красивым, пожалуй, даже немного педантичным, на котором говорил отец, и на котором говорили в кругах, где он – вне службы – вращался. Отец поэтому не вводил ее в свою среду, хотя, возможно, у него даже не было долгое время своего «общества» в столице – и всем этим вновь закреплялось это отчуждающее родителей положение. Было бы, конечно, преувеличением назвать его разладом, но как бы там ни было, мое сочувствие было на стороне матери, которую я жалел. Вероятно, это смутное чувство содействовало тому, что я – как я расскажу в дальнейшем – «переметнулся» от отцовского чешского национализма к еврейскому, так сказать, на сторону матери.
По существу религиозно холодная, безразличная, мама (которая, когда я стал постарше, высказывалась весьма скептически насчет существования бога: мол, если бы существовал всемогущий и всеблагий бог, то как он мог бы терпеть все те безобразия и несправедливости, которые беспрестанно творятся на земле», не то что по инерции, а благоговейно любила кое-какую религиозную восточную еврейскую обрядность. С трудом выговаривала слова по древнееврейскому молитвеннику (читать она его умела, и меня научила азбуке), но напечатанный рядом немецкий перевод молитв (по реформированному, не ортодоксальному культу), не интересовал ее, казался ей скучным, пустым. Можно было подумать, что она просто тешится узорами букв квадратного шрифта, странными звучаниями слов, причем вряд ли понимала больше дюжины из них.
Влечение к незнакомым, «таинственным» шрифтам свойственно было и мне. У меня с юношества имелась брошюрка Британского библейского общества – реклама его изданий переводов Библии на многочисленные языки, содержавшая один из стихов евангелия Иоанна («Ибо так Бог возлюбил мир…») на многих десятках языков. Я ею очень дорожил. Арабский шрифт, китайские иероглифы, обе слоговые японские азбуки – катакана и хирагана, индийские дева-нагари и бенгали, древне-германские руны, армянский, грузинский, монгольский шрифты, и, конечно, древнеегипетские иероглифы, гератическое и демотическое письмо, как и пиктограммы американских индейцев, – все это меня чрезвычайно занимало. Вероятно по той же причине я в средней школе стал посещать необязательные уроки стенографии, выучил ее, а затем, будучи уже в Советском Союзе, приспособил себе чешскую к русскому языку. И хотя я редко упражнялся в ней и не дошел до парламентской скорости, все же владел ею настолько, что однажды, когда не пришла стенографистка, сумел довольно сносно записать доклад Каменева на заседании Московского комитета партии.
Но, конечно, чтение древнееврейского молитвенника, которое бывало, впрочем, редко, по большим религиозным праздникам, с подсознательной традицией молодости, со смутными образами школы, где она училась (а она сначала посещала религиозную школу «хедер»), с образом ее отца, братьев, подруг. В синагогу она ходила крайне редко. Отец делал вид, что все это ему безразлично, что это ее частное дело, но в действительности нервничал, злился. Поэтому меня мама не хотела брать с собой. Но, разумеется, я все равно из любопытства настоял.
Как необыкновенно выглядела эта Виноградская синагога! (Гитлеровцы сравняли ее с землей, потому вероятно, что золотые шестиконечные звезды «щит Давида» на ее двух башнях, были видны высоко над панорамой Праги). Совсем непохожая ни на пасмурный католический костел, ни на такую же мрачную старинную синагогу, каких в Праге было несколько, в том числе и древнейшая в Европе «старо-новая», а также ни на трезвую, казарменную евангелическую молельню. Здание у нее было высоченное, все белое и золоченное внутри, розовое снаружи, в ложно-мавританском стиле, с множеством арабесок, и яркого электрического света (лампочки в виде свечей), но, конечно, без образов, икон, хоругвий, всего того, что запрещает иудаизм. Мужчины сидели в зале внизу на скамьях с высокими спинками, женщины на галерее, полускрытые от взоров мужчин. Когда я, еще совсем маленький, впервые выклянчил у мамы разрешение сопровождать ее, меня снисходительно, в нарушение всех правил, пустили к женщинам. Позже я садился в самую глубь зала, к мужчинам с покрытой головой, и смотрел, как они, не снявши шляп, в талесах, углублялись в свои молитвенники, и вторили странным беспокойным бормотаньям кантора, одетого в черный талар, читавшего нараспев перед амвоном. Но вот кантор начинает петь по настоящему. У него чудный баритон, так подходящий для старинных древнееврейских мелодий, в ответ поет хор, играет орган. Это особенность реформированного культа, подражающего христианскому. В ортодоксальном иудаизме эта «языческая мишура» не полагается. А здесь хор женский, поют хористки нееврейки, из городского театра, а соло поет известная певица-христианка.
Богатые евреи, в особенности еврейки, посещают по большим праздникам синагогу только для того, чтобы послушать музыку, пение, повидать знакомых, показать свои туалеты, наряды последней моды, выписанные из Вены и Парижа. Брезгливость, отвращение к ним и ко всему показному, к размалеванным личинам и вызывающим нарядам, привилось мне рано со слов отца. В этом отношении – под его же влиянием – моя милая скромная мама ушла далеко вперед от своей бывшей среды.

«Константин Михайлов в поддевке, с бесчисленным множеством складок кругом талии, мял в руках свой картуз, стоя у порога комнаты. – Так пойдемте, что ли?.. – предложил он. – С четверть часа уж, наверное, прошло, пока я назад ворочался… Лев Николаевич не долго обедает. Я накинул пальто, и мы вышли из хаты. Волнение невольно охватило меня, когда пошли мы, спускаясь с пригорка к пруду, чтобы, миновав его, снова подняться к усадьбе знаменитого писателя…».
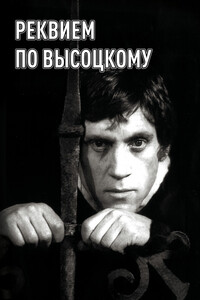
Впервые в истории литературы женщина-поэт и прозаик посвятила книгу мужчине-поэту. Светлана Ермолаева писала ее с 1980 года, со дня кончины Владимира Высоцкого и по сей день, 37 лет ежегодной памяти не только по датам рождения и кончины, но в любой день или ночь. Больше половины жизни она посвятила любимому человеку, ее стихи — реквием скорбной памяти, высокой до небес. Ведь Он — Высоцкий, от слова Высоко, и сей час живет в ее сердце. Сны, где Владимир живой и любящий — нескончаемая поэма мистической любви.

Роман о жизни и борьбе Фридриха Энгельса, одного из основоположников марксизма, соратника и друга Карла Маркса. Электронное издание без иллюстраций.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.