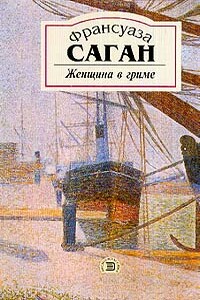— Как могли мы прийти к такому? — послышался голос Аниты, голос слабый и печальный, почти как у этой красивой актрисы в «Хиросима, любовь моя», некстати подумал он. Последняя надежда заставляла его молчать, но тот же нежный голос продолжал:
— Не делай вид, что спишь, мой родненький. Ответь мне… Как могли мы прийти к такому?..
И он услышал, что, не желая того, задает — жалким тоном — свой вопрос:
— К чему? К чему прийти?
— Понаговорили друг другу столько ужасных вещей…
— А-а… это, — сказал Луи с облегчением, потому что на миг оробел при мысли, что намекает она на нечто в их недавних утехах, но, к счастью для Аниты (как, впрочем, и для многих женщин), желание мужчины уже само по себе было доказательством любви — одно лишь проявление этого желания, похоже, лишало сомнений натуры страстные.
— Ну как… по глупости; погорячились… это нестрашно, — сказал он успокаивающим тоном. — Давай, спи.
— Это нестрашно?.. Ты и вправду веришь в то, что говоришь?
О нет, в то, что говорил, он не верил, но не было у него желания именно ей в этом признаться. Другое дело — Лауре или Бобу, лучшему другу, или своей матери, или консьержке, неважно кому, только не ей. У него не было желания говорить с ней о чем бы то ни было (и особенно о единственной вещи, о которой она могла по-настоящему просить, чтобы он говорил — притом ей одной, — о нем и о ней, о них и их будущем).
«Это стало несносным», — подавил он вздох, а Анита, приподнявшись и опершись на локоть, склонилась к нему; ее опущенная голова была скрыта волосами. Он чувствовал тонкий запах ее духов, смешанный с запахом ее тела, их тел после любви и который был для него самим запахом счастья, блестящим и нежным… и безумные пальцы, возникшие из прошлого, сжали ему горло — он вздрогнул от сухого всхлипа, спазма без слез, сила которого его удивила. «Надо бы поговорить с ней, быстро подумал он, отметая это намерение в тот же миг, что оно появилось, — надо бы с ней объясниться, заставить меня понять…»
Потому что уже долгое время она, говоря с ним, обращалась к человеку антипатичному и не известному самому Луи, которого и он не мог бы ни любить, ни терпеть. Она видела вместо Луи влюбленного, доверчивого и веселого — он знал, что был таким, — какого-то грубого и черствого сноба. Что до него, он никогда не забывал прелестной и счастливой молодой девушки, а потом искренней женщины, какой она была и к которой он пытался каждый раз обращаться. И всегда с печальной нежностью он видел, что она отказывается его понимать, но в то же время находит, казалось, горькое интеллектуальное удовлетворение в периодическом выведении его на чистую воду. А может быть, никто из них не походил более на тот образ, который некогда запечатлелся у одного относительно другого и который — один и другой — любили? Но по крайней мере он-то не отказывался от него, он сожалел о нем! По крайней мере его томила грусть, что он перестал быть счастливым, ее же в конечном счете — что она никогда счастливой не была. «И, наверное, так потому, — думал он, открывая глаза в полумрак, — потому, что я любил эту женщину по-настоящему и по-настоящему жалею, что могу ее вскоре оставить. А если это случится, я-то буду помнить о ней, но будет ли помнить и жалеть она?..»
Голос зудел над ним и очень далеко от него.
— Ты видишь, Луи, слова могут завести неизвестно куда. Нам надо следить за этим. Ты не должен теперь говорить мне ничего такого, чего не продумал глубоко, — добавила она веско, даже с нажимом. — Ведь все откладывается, знаешь ли… Ты меня слышишь?
Но он ее больше не слышал. Он, впрочем, никогда ее, всего вернее, слышать не будет. Он снова прикрыл глаза и, если что слышал, то только посвистывание велосипедиста на пустынной улице.
И он сказал себе, что скоро это будет его мелодия, которую другой свободный человек — он сам, быть может, — станет насвистывать летней зарею на улице, схожей с этой.
Перевод с французского Эдуарда ШЕХТМАНА