Мой папа Штирлиц - [10]
В детстве мне казалось, что мрачное недоверие, испытываемое "простым человеком" к "интеллигенту" базируется, на его наивном убеждении, что тот, якобы, не "выражается", не "поддает", а поддав, не орет надсадно в кустах песню "Ландуши". Быть интеллигентом считалось таким же позором, как и быть евреем. Hекоторые невинные граждане считали даже, что это одно и то же. Заподозренному хотъ в одном из этих грехов никогда не светило счастье почувствовать себя своим среди людей, с которыми, хочешь не хочешь, приходится жить.
Помню, как всей казармой меня пытались ассимилировать, отучая мыть руки после туалета. Стоило выйти из него и подойти к общественному умывальнику, располагавшемуся там же, в коридоре, так что любой прохожий мог стать свидетелем моих гигиенических процедур, как кто-нибудь непременно обращался ко мне с вопросом типа: "Оль, Оляй, ты чтой-то руки моешь? Разве тебя мамка не научила, задницу газетой вытирать, а не руками". После чего неизменно следовало ехидное в спину: "Тоже мне, интеллигенция".
С годами я перестала стыдиться своей "интеллигентности", ежиться и корежиться от ощущения своей классовой, расовой и социальной вины, но тогда, в семь лет, единственным спасением от нее были для меня книги.
После смерти бабушки я оказалась предоставленной самой себе. Мама возвращалась с работы поздно, весь день я была свободна. Хочешь, гуляй на улице, хочешь... Оказалось, что выбор-то не так уж и велик! Сверстники общались со мной неохотно, часто мне казалось, что все, что я говорю, вызывает в них чувство неудобства и гадливости, как будто на носу у меня висит сопля, все ее видят, но мне не говорят. Нередко наши игры кончались жгучей обидой с моей, и полным, беспросветным презрением с их стороны. Мир, в котором мы жили, четко делился на "нашенских" и "ненашенских". Я была "ненашенской". Все чаще вместо того, чтобы идти в коридор и добровольно испытывать унижение, я предпочитала остаться дома, побыстрее отделаться от уроков, поставить на хрипатую радиолу пластинку с опереттой "Сильва" и, распевая арии, вторя нелепым, приторным диалогам, мыть "в трех водах" посуду, подметать пол, складывать "громоздяк" (сбитое в ком, сухое, не глаженое белье) и предвкушать, как, вернувшись с работы, мама похвалит меня, потом мы поужинаем "чем бог послал" и она лукаво, заранее зная ответ, спросит: "Ну что, почитаем?"
На кухню мы старались ходить как можно реже, памятуя старинный бабушкин завет "не искать на свою жопу приключений", поэтому жили по принципу – "утром чай, днем чаек, вечером чаище", заменяя нормальную еду бутербродами и слабым желтеньким чайком с вишневым вареньем. Его заготавливали на зиму, но с нашими аппетитами оно доживало лишь до середины ноября, после чего нам приходилось пробавляться синтетическими болгарскими конфитюрами.
Расправившись с ужином, мы забирались вдвоем на бывшую бабушкину, ныне мамину постель и погружались в счастливейшее безмятежное чтение. Я читала сказки и, страстно любимые, карманного формата книжечки о пионерах-героях (своеобразные жития святых советского времени), а мама свои, особенные книги – пухлые, от ветхости слоистые, как торт "Наполеон", "зачитанные до дыр", с фиолетовым библиотечным штампом на первой и семнадцатой страницах, упоительно пахнувшие таинственной мудростью старших.
"Дон Кихот" и "Тихий Дон", например. Я не сомневалась, что это одна книга, но в двух томах, и была ужасно сконфужена, когда обнаружила свою ошибку. Этот благородный, "тихий" Дон Кихот, рыцарь печального образа – был воображаемым другом моего детства. Нет, тогда книгу я, конечно, не читала, хоть и пыталась. Мама пересказала мне ее своими словами. Восхищало также то, что написал ее человек, который отчасти был писатель, а отчасти блестящий, полированный сервант, однажды виденный мною в гостях. С тех пор имя этого писателя сладко пахнет для меня новой мебелью, библиотечной пылью и детством.
Или, скажем, три товарища – Эрих, Мария, Ремарк. Нам с мамой страшно нравились эти "товарищи". Долгое время я думала, что это они написали книгу со смешным названием "Трое в лодке, не считая собаки". Был еще какой-то толстый лев, которого мама неправильно называла Лев Толстой, а еще был неприятный, как хлористый кальций, Горький, а еще милый мальчик Саша – негр, потому что Черный, но не Пушкин, а другой, но тоже хороший. Черный и Белый, Гоголь и Бабель, Сухово-Кобылин и Салтыков-Щедрин, Блок, Белль, Гете, Рабле – эти имена были для меня в детстве кубиками, из которых я строила для себя воображаемый волшебный замок взрослости. Видя, как самозабвенно мама читает, как нетерпеливо перелистывает страницы, как стирается с ее лица суровое, болезненное выражение, и оно освещается тихим счастливым светом, я мечтала поскорее вырасти, прочесть все ее любимые книги и стать такой же прекрасной, как она.
Мама отличалась от всех, кого я знала. Не только соседки, но и ее подруги, коллеги, бывшие однокурсницы были обыкновенными тетями с тяжелыми походками, авоськами, взглядами, характерами и судьбами. А мама была другая... В ней чувствовалась тайна, которую понимала только я. Моя мама умела быть счастливой.
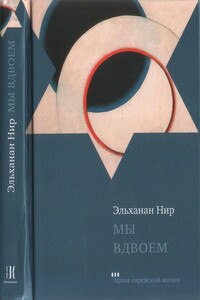
Пристально вглядываясь в себя, в прошлое и настоящее своей семьи, Йонатан Лехави пытается понять причину выпавших на его долю тяжелых испытаний. Подающий надежды в ешиве, он, боясь груза ответственности, бросает обучение и стремится к тихой семейной жизни, хочет стать незаметным. Однако события развиваются помимо его воли, и раз за разом Йонатан оказывается перед новым выбором, пока жизнь, по сути, не возвращает его туда, откуда он когда-то ушел. «Необходимо быть в движении и всегда спрашивать себя, чего ищет душа, чего хочет время, чего хочет Всевышний», — сказал в одном из интервью Эльханан Нир.
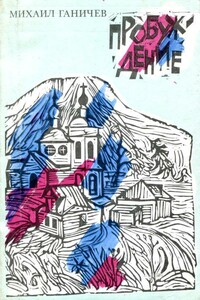
Михаил Ганичев — имя новое в нашей литературе. Его судьба, отразившаяся в повести «Пробуждение», тесно связана с Череповецким металлургическим комбинатом, где он до сих пор работает начальником цеха. Боль за родную русскую землю, за нелегкую жизнь земляков — таков главный лейтмотив произведений писателя с Вологодчины.

Одна из лучших книг года по версии Time и The Washington Post.От автора международного бестселлера «Жена тигра».Пронзительный роман о Диком Западе конца XIX-го века и его призраках.В диких, засушливых землях Аризоны на пороге ХХ века сплетаются две необычных судьбы. Нора уже давно живет в пустыне с мужем и сыновьями и знает об этом суровом крае практически все. Она обладает недюжинной волей и энергией и испугать ее непросто. Однако по стечению обстоятельств она осталась в доме почти без воды с Тоби, ее младшим ребенком.

В сборник вошли рассказы разных лет и жанров. Одни проросли из воспоминаний и дневниковых записей. Другие — проявленные негативы под названием «Жизнь других». Третьи пришли из ниоткуда, прилетели и плюхнулись на листы, как вернувшиеся домой перелетные птицы. Часть рассказов — горькие таблетки, лучше, принимать по одной. Рассказы сборника, как страницы фотоальбома поведают о детстве, взрослении и дружбе, путешествиях и море, испытаниях и потерях. О вере, надежде и о любви во всех ее проявлениях.

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.