Мой личный военный трофей - [42]
“Встреча с Львом Гинзбургом. К чему теперь это дружелюбие, исходящее от человека, который тогда, после пьесы о Троцком, так непотребно меня разругал. Что это — социалистическая шизофрения? Тотальное обесценение слова? Поставлено оно на службу только сиюминутным тактическим целям, а может быть, самозащите: ведь он перевел “Марата”? Ничего уже нельзя принимать всерьез? Или, наоборот, все слишком серьезно, чтобы в это вообще следовало вникать?” (Т. 1, с. 347).
“Литгазета” со статьей вышла в тот день, когда Бёлль давал прощальный прием, на который был приглашен и Гинзбург. Он появился с опозданием и, не снимая дубленки, ринулся было к Бёллю с протянутой для пожатия рукой. Обычно приветливый, дружелюбный Бёлль, которого уже познакомили со статьей, не “заметил” руки и обратился к близстоящему гостю с какими-то, вероятно, не очень срочными словами. Неприятно было видеть, как растерянный Гинзбург, заметив, что все вдруг замолчали и отвернулись, потоптался на месте и поплелся к двери.
Кстати, и “Троцкий в изгнании” был напечатан у нас двадцатью годами позже, уже к 120-летию со дня рождения Ленина. Перевел пьесу… Юрий Гинзбург, сын Льва.
Годы спустя, когда уже не было в живых ни Вайса, ни Гинзбурга, “Марат” все же был поставлен: в городе Лиепае, в Театре дважды Краснознаменного Балтийского флота, — спектакль (режиссер Ольга Глубокова) был приурочен к 71-й годовщине Октябрьской революции. (Еще через десять лет пьесу поставил в своем театре и Юрий Любимов.)
К сожалению, на премьеру я не смогла поехать, но присланные мне фотографии спектакля и афиша мне вскоре пригодились.
Пригласили меня не из-за моей бывшей принадлежности к Балтийскому флоту, а потому, что за несколько дней до премьеры в “Литгазете” появился мой перевод одной главы из первой книги трехтомного романа “Эстетика сопротивления”.
О романе, о необходимости его издать у нас Т. Мотылева не уставала говорить на всех редсоветах, она же опубликовала большую статью в “Воплях”. И когда мне предложили дать что-нибудь для газеты, я выбрала, конечно, самую “еретическую”, по тем временам — все еще, главу: о советских процессах 1937 года, — проскочи она, судьба трилогии была бы решена. Так и случилось: в ЦК романом заинтересовались, дали указание одному из издательств заказать перевод. Для ускорения работы над этим гигантским произведением была создана целая бригада, все, казалось, шло как надо, тем более, что время вполне созрело. Но переводчица первого тома, Инна Каринцева, умерла, другие оказались слишком пассивны, чтобы перегруппироваться, я, довольная, что дала толчок, перестала названивать, а когда спохватилась, было уже поздно заново поднимать все на ноги. К этому времени все стало можно, хлынул мощный поток запретной литературы, и “Эстетика сопротивления” не представляла уже такого жгучего, актуального интереса. Единственное, что я могла сделать для романа, это по просьбе издательства, готовившего том пьес Вайса, вставить в предисловие одного журналиста, политического тяжеловеса, абзац о трилогии.
Небольшой вклад в память о Вайсе (он умер в 1982 году) внесла моя дочь: она перевела пронзительное эссе об Освенциме — “Место, для которого я был предназначен”.
Десять дней, которые Петер Вайс провел в сентябре 1974 года в Москве и Волгограде, он довольно подробно зафиксировал в своих “Дневниках 1971—1980”, успевших выйти при его жизни.
Во время конгресса он не томился от скуки. Дело происходило в Колонном зале, Вайс знал, что здесь звучал и знаменитый доклад Бухарина на Первом съезде советских писателей о революционном искусстве, и здесь же четырьмя годами позже вершился суд над ним.
Действие упомянутой главы романа “Эстетика сопротивления”, над первым томом которого он тогда работал, происходит здесь же. И пребывание в Колонном зале было для Вайса чрезвычайно волнующим. Глаз художника — а Вайс был и известным художником, его персональные выставки состоялись в ряде городов Европы, в том числе в Париже, — вбирал в себя мельчайшие детали, чтобы найти потом точное отражение в романе. Он вкрапил их в рассказ норвежского писателя Нордаля Грига, ловящего по радиоприемнику известия, чтобы знакомить с ними своих друзей, соратников, участников боев за республиканскую Испанию. Позволю себе привести отрывок из этой главы, так и оставшейся единственным фрагментом романа, опубликованным у нас на страницах “Литературной газеты”:
“То, что мы узнавали, были отрывочные сигналы, знаки Морзе, намеки, требующие объяснения. Поблизости от Кремля, в Доме Союзов — бывшем дворянском клубе, — в торжественном зале с мраморными колоннами и лазорево-голубыми стенами, под огромными подвесками люстр, на сцене сидел Бухарин, вместе с Рыковым, Крестинским, Раковским и другими обвиняемыми, и называл себя руководителем контрреволюции, замышлявшим реставрацию капитализма в Советском Союзе. Григ видел его три с половиной года тому назад, на Первом всесоюзном съезде писателей, когда Бухарин держал большую речь — наверху, с кафедры, — речь о свободе революционного искусства, о безусловной широте формы; его слова звучали твердо, отточенно, четко, в них было нечто провидческое, он не предавался размышлениям, это была пламенная атака, контратака, это было провидение как следствие яростных дебатов, нападение на узколобость и догматизм, на ремесленников от героического идеализма, отказ от всяческих директив, призыв к раскрытию индивидуальностей. Тогда, в те последние дни августа тридцать четвертого года, казалось, что заложен фундамент новой культуры, которая после Октября искала своего выражения, каждая фраза оратора была направляющей, пронизанной высокой ответственностью, за ним стояло Политбюро, партия. Грига захватили ликование, шквал оваций, хрустальные грани люстр тысячекратно отражали объятия собравшихся, — зеркальная гладь, некогда светившаяся блеском драгоценностей и орденов кружившей в танце аристократии, теперь отражала жалкую кучку проклятых. Хотя Григ знал, что годом позже Бухарин утратил какое бы то ни было влияние, а еще год спустя — всякую поддержку, появление его после года тюрьмы показалось ему все же неправдоподобным. Не надеялся ли я, спрашивал себя Григ, что он сможет отмести обвинения, обрушившиеся на него во время процессов против Зиновьева, Каменева, Пятакова, Радека, Тухачевского, что он в состоянии прекратить вызванную фашизмом общую панику и восстановить социалистическую законность. Что заставило его, спрашивал себя Григ, ближайшего друга Ленина, выставить себя перед мировой общественностью организатором блока врагов Советского Союза и отречься от всего, за что всю жизнь боролся? Крестинский, маленький, тщедушный, сломленный, со вдавленной в переносицу стальной оправой очков, в день открытия суда совершил поступок, который, казалось Григу, мог бы развеять ужас. Он единственный из заключенных отказался признать вину, никогда он не принадлежал к блоку правых и троцкистов, даже не подозревал о его существовании, не поддерживал никаких вменяемых ему в вину связей с немецкими и японскими службами шпионажа. Победно звучали сообщения фалангистов, наступавших на Фуэндетодос, родину Гойи, на запад от Бельчите, а обвинитель наступал на упрямца, теряющего сознание. Слушайте, кричал прокурор, вы не сможете ссылаться на то, что ничего не слышали, а Крестинский, прежде посол Советского Союза в Берлине, почти шепотом отвечал, что ему плохо. Радио на разных языках сообщало о случившемся. Григ много раз пересказывал, как Крестинский принимал лекарство, чтобы быть в состоянии следить за ходом процесса. Риск, на который Крестинский отважился, поправ все правила, по которым велся процесс, должно быть, отнял у него все душевные силы, говорил Григ, подсудимый пошел на это, видимо, в надежде, что другие последуют его примеру. Такая возможность еще оставалась в это второе марта, поворот еще мог бы произойти: международная пресса была в сборе, совместное заявление в этот краткий миг замешательства, оцепенения могло бы привести к признанию их невиновности. Но этого не произошло, остальные пребывали в состоянии подавленности, ожидая своей гибели, машина допроса покатила дальше, переступив через происшедшее, раздавив его, превратив в ничто, обвиняемые по-прежнему сотрудничали с судом и толкали Крестинского на то, чтобы он отказался от своего заявления. До вечернего заседания третьего марта Григ еще надеялся, что там, в зале с колоннами, где когда-то давались балы, Бухарин поднимется, что большевистское прошлое, диалектический и исторический материализм, сама ситуация придадут ему силы. Но потом эфир принес нам признание Крестинского, мы записали его слово в слово, чтобы на следующее утро привести в черной рамке в стенной газете”.

В Дополнения включены отдельные стихотворные и прозаические произведения Вельтмана, а также их фрагменты, иллюстрирующие творческую историю «Странника» показывающие, как развивались поднятые романом темы в последующем творчестве писателя. Часть предлагаемых сочинений Вельтмана и отрывков публикуется впервые, другие печатались при жизни писателя и с тех пор не переиздавались.

Впервые в отечественной историографии предпринята попытка исследовать становление и деятельность в Северной Корее деспотической власти Ким Ир Сена — Ким Чен Ира, дать правдивую картину жизни северокорейского общества в «эпохудвух Кимов». Рассматривается внутренняя и внешняя политика «великого вождя» Ким Ир Сена и его сына «великого полководца» Ким Чен Ира, анализируются политическая система и политические институты современной КНДР. Основу исследования составили собранные авторами уникальные материалы о Ким Чен Ире, его отце Ким Ир Сене и их деятельности.Книга предназначена для тех, кто интересуется международными проблемами.

Гулиев Алиовсат Наджафгули оглы (23.8.1922, с. Кызылакадж Сальянского района, — 6.11.1969, Баку), советский историк, член-корреспондент АН Азербайджанской ССР (1968). Член КПСС с 1944. Окончил Азербайджанский университет (1944). В 1952—58 и с 1967 директор института истории АН Азербайджанской ССР. Основные работы по социально-экономической истории, истории рабочего класса и революционного движения в Азербайджане. Участвовал в создании трёхтомной "Истории Азербайджана" (1958—63), "Очерков истории Коммунистической партии Азербайджана" (1963), "Очерков истории коммунистических организаций Закавказья" (1967), 2-го тома "Народы Кавказа" (1962) в серии "Народы мира", "Очерков истории исторической науки в СССР" (1963), многотомной "Истории СССР" (т.

Наконец-то перед нами достоверная биография Кастанеды! Брак Карлоса с Маргарет официально длился 13 лет (I960-1973). Она больше, чем кто бы то ни было, знает о его молодых годах в Перу и США, о его работе над первыми книгами и щедро делится воспоминаниями, наблюдениями и фотографиями из личного альбома, драгоценными для каждого, кто серьезно интересуется магическим миром Кастанеды. Как ни трудно поверить, это не "бульварная" книга, написанная в погоне за быстрым долларом. 77-летняя Маргарет Кастанеда - очень интеллигентная и тактичная женщина.
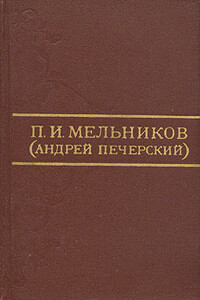
Встречи с произведениями подлинного искусства никогда не бывают скоропроходящими: все, что написано настоящим художником, приковывает наше воображение, мы удивляемся широте познаний писателя, глубине его понимания жизни.П. И. Мельников-Печерский принадлежит к числу таких писателей. В главных его произведениях господствует своеобразный тон простодушной непосредственности, заставляющий читателя самого догадываться о том, что же он хотел сказать, заставляющий думать и переживать.Мельников П. И. (Андрей Печерский)Полное собранiе сочинений.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.