Морские повести - [58]
— Так-так, — раздраженно произнес старик. — Значит, Илья…
Он хотел уже высказать дочери все, что думал о происходящем с нею, но случайно взглянул в ее глаза и смущенно умолк: столько в них было тоски, отчаяния, большого женского горя, что сердце Митрофана Степановича дрогнуло. Он растерялся: что же ей сказать, чем ободрить?
Но Катя продолжала молчать, и он набил трубку, раскурил и сердито закашлялся, закрывшись клубами дыма.
Весь вечер они оба отчужденно молчали: Катя что-то шила, отец попыхивал трубкой. Кажется, это была первая их размолвка, и Митрофан Степанович переживал, что так и не сумел утешить, успокоить дочь.
…А Катя все обдумывала: рассказать отцу, куда и зачем она ходит по вечерам, или не рассказывать? Ей было до слез обидно: неужели отец, всегда такой умный, чуткий, понимавший ее с полуслова, способен теперь предположить, будто она и впрямь забыла своего Акима, разлюбила?
Нет, и все-таки она ничего отцу пока не скажет…
Она воткнула иглу в отворот старенькой кофточки, поглядела на часы и деланно-равнодушно сказала:
— Пожалуй, спать пора.
В вечерние часы эскадра, растянувшаяся на несколько миль, напоминала диковинный плавучий город, иллюминированный разноцветными ходовыми огнями.
Впереди бороздили иссиня-черную воду разведчики «Светлана», «Урал», «Терек» и «Кубань». За ними в двух кильватерных колоннах шли громадные броненосцы; еще дальше, раскачиваясь с кормы на нос и с носа на корму, следовали нагруженные до отказа транспорты. И уже совсем далеко, почти у самого горизонта, замыкали эскадру «Олег», «Аврора» и «Донской», окруженные миноносцами.
Зрелище было величественное, и настроенный на поэтический лад мичман Терентин, возвращаясь после ночной вахты, восторгался:
— Понимаешь, Алексей, стою я нынче, гляжу на эту вереницу огней — и кажется мне, будто я в какое-то волшебное царство попал!
— А ты получше приглядись, что в этом волшебном царстве творится, — охлаждал его пыл более уравновешенный и рассудительный Дорош. — Не очень-то много… волшебства увидишь: грязь, да мразь, да горе людское…
— А что: опять что-нибудь приключилось?
— «Опять»! — возмутился Дорош. — Люди мрут, как мухи, а ты ничего не видишь, кроме… очаровательных разноцветных огоньков!
Он взволнованно прошелся по каюте.
— Нет, ты только посмотри, что делается! На «Бородино» двое трюмных умерли. На «Урале» тоже двое погибли. Из команды «Сисоя» третьего человека списывают на «Орел» со скоротечной чахоткой… А сумасшествия? Давеча доктор Кравченко рассказывал в кают-компании, что на эскадре насчитано уже три случая психического расстройства. — Он гневно сжал кулаки: — И, главное, ничего удивительного в этом нет! Питаются люди все хуже. Климат изнуряющий. А забота о матросе… Э, да что там говорить: сам небось видел, как они босиком, без сапог уголь грузят… Смотреть страшно!..
— Хорошо, а что же ты предлагаешь? — нерешительно спросил Терентин. — Где ты выход видишь?
Дорош резко остановился:
— В том-то и дело, милый мой Андрюша, что выхода этого я, как и другие, не вижу!
…Андрей Терентин, как это часто бывает с молодыми офицерами, старался походить на кого-нибудь из бывалых моряков. Сначала это было увлечение Аркадием Константиновичем Небольсиным: его строгой походкой, его умением говорить холодно и раздельно, будто отрубая фразу от фразы. Потом Небольсина сменил стремительный, веселый, темпераментный флаг-офицер адмирала Рожественского — ему Терентин подражал особенно долго. И позже всего пришло подражание командиру «Авроры»: так же, как тот, мичман каждое утро выбривал до синевы подбородок, так же сверкал неизменно белоснежным воротничком, так же неопределенно улыбался, слушая собеседника.
— Скоро ты тенью Егорьева сделаешься, — заметил ему однажды Дорош, и мичман расценил это как похвалу.
В одном только мичман не был согласен с командиром «Авроры»: уж очень тот «либеральничает», как выражался Терентин, с нижними чинами. Может вечером, после дудки «команде петь песни, отдыхать», запросто прийти на бак, петь с матросами или рассказывать им о звездах и еще какой-нибудь чепухе. Может, не смущаясь командирским положением, интересоваться: что, мол, пишет какому-нибудь «духу»-кочегару рязанская Дунька-невеста.
— А ты чего хотел бы? — недоумевал Дорош. — Чтобы он бил матросов, орал на них?
— Конечно, нет. Но останавливаться на палубе, разговаривать как с равным с каким-нибудь марсовым — это, Алексей, выше моего понимания! Ты помнишь инцидент в Танжере?
Да, Дорош, конечно, помнил, что произошло в Танжере.
Командир крейсера пригласил тогда на корабль местного французского консула и двух-трех наиболее именитых танжерских жителей: некоего сомнительного испанца Риоса, толстенького немчика-негоцианта и еще кого-то.
Это была в общем-то вынужденная любезность: правила приличия требовали отблагодарить за гостеприимство, оказанное русским морякам.
Ужин удался на славу, офицерский повар не ударил в грязь лицом, и стол оказался сервированным так, что французик только ахнул от изумления, а когда корабельный оркестр исполнил национальный гимн Франции, консул даже прослезился.
Однако после рюмки-другой, оказавшись уже навеселе, консул стал уговаривать Егорьева показать ему корабельных плясунов: говорят, «Аврора» славится ими.

Георгий Халилецкий — известный дальневосточный писатель. Он автор книг «Веселый месяц май», «Аврора» уходит в бой», «Шторм восемь баллов», «Этой бесснежной зимой» и других.В повести «Осенние дожди» он касается вопросов, связанных с проблемами освоения Дальнего Востока, судьбами людей, бескомпромиссных в чувствах, одержимых и неуемных в труде.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.
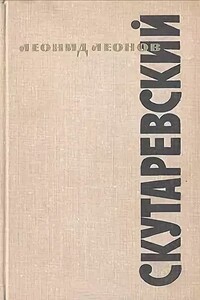
Известный роман выдающегося советского писателя Героя Социалистического Труда Леонида Максимовича Леонова «Скутаревский» проникнут драматизмом классовых столкновений, происходивших в нашей стране в конце 20-х — начале 30-х годов. Основа сюжета — идейное размежевание в среде старых ученых. Главный герой романа — профессор Скутаревский, энтузиаст науки, — ценой нелегких испытаний и личных потерь с честью выходит из сложного социально-психологического конфликта.
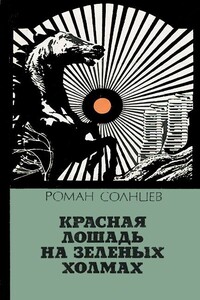
Герой повести Алмаз Шагидуллин приезжает из деревни на гигантскую стройку Каваз. О верности делу, которому отдают все силы Шагидуллин и его товарищи, о вхождении молодого человека в самостоятельную жизнь — вот о чем повествует в своем новом произведении красноярский поэт и прозаик Роман Солнцев.

Владимир Поляков — известный автор сатирических комедий, комедийных фильмов и пьес для театров, автор многих спектаклей Театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Им написано множество юмористических и сатирических рассказов и фельетонов, вышедших в его книгах «День открытых сердец», «Я иду на свидание», «Семь этажей без лифта» и др. Для его рассказов характерно сочетание юмора, сатиры и лирики.Новая книга «Моя сто девяностая школа» не совсем обычна для Полякова: в ней лирико-юмористические рассказы переплетаются с воспоминаниями детства, героями рассказов являются его товарищи по школьной скамье, а местом действия — сто девяностая школа, ныне сорок седьмая школа Ленинграда.Книга изобилует веселыми ситуациями, достоверными приметами быстротекущего, изменчивого времени.