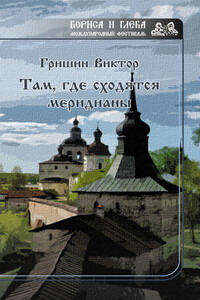— Ну, вот и все, — вдруг сказала она, — все готово… — И она отколола заколку в волосах — они полились по ее плечам золотыми волнами.
— Давайте, — согласился Санин и потянулся рукой к горлу, где уже давно сдавливала его въевшаяся в самую кожу пуговица.
— Ой, что это я. — И она, подставив ладонь к верхнему краю лампы, дунула на нее, свет погас, стало темно, только, помолчав немного, будто спохватившись, завел свою вечную песню сверчок.
Он слышал, как в темноте рушились ее одежды, он видел ее, когда она проходила совсем рядом с ним у окна, в которое украдкой просочился лунный свет.
— Вы где? — спросила она его. Санин испугался, заторопился с остававшейся еще на нем рубахой, сдернул через голову завязанный мамой галстук.
— Я здесь, — отозвался он и решил про себя дальше молчать, потому что собственный голос показался ему чужим, неестественным.
— О, да вы и целоваться-то не умеете.
— А сами-то.
…Она расчесывала спутавшиеся волосы гребенкой, глядя на него в упор с такой нежностью, о какой он и не слыхивал до сих пор, не видал в самых что ни на есть заграничных фильмах. Он сидел перед ней за уставленным немудреными деревенскими яствами столом, наливал в чайную чашку с петухом на боку шампанского, изредка поглядывал на нее и, улыбаясь, аппетитно ел.
— Как хоть тебя звать-то, — допивая шампанское, спросил он ее, улыбаясь, — а?
— Да какая вам разница, — не сводя с него умиленных глаз, ответила она, — женщина я, и всё.
— Ну, ладно, сегодня ты командуешь…
— А что, разве будет завтра?
— А если не получится?
— Должно получиться, я везучая…
— Ну смотри…
А она будто и не слышала его:
— Вот так, как вы, есть будет — вилочкой, ножичком… Мне нравится, как вы едите… Ну, поешьте еще, поешьте, чтоб я запомнила — чтоб знала, чему учить Митьку-то моего.
— Нашего, — поправил ее Санин.
— А, — она махнула рукой, — завтра же забудете…
— Не забуду, — набычился Санин, — зачем ты так…
— Ну, ладно, ладно, просто я вас запомнить всего хочу, вот и пытаю, то так, то так.
— А, — оттаял Санин, — ну, ну, запоминай. — И он подлил в чашку шампанского.
— Слушай, — вдруг спохватился он, — давай тащи бумагу и чем писать… Я оставлю тебе свой адрес, напишешь мне, когда Митька, — он снова заулыбался во весь рот, — наш родится. Давай тащи.
Она встала, принесла кусок пожелтевшей бумаги. Химический карандаш взяла с окна.
— Посылку недавно сестре отправляла — цел, гляди. Нате…
Санин подлил себе шампанского, выпил. Взял кусок бумаги и стал медленно выводить. Москва… улица Миклухо-Маклая…
— Слюнить так надо?
— Да не так же, дурачок ты мой… — И она засмеялась, потому что Санин перемазал себе рот, как первоклассник, и хмельной, с перепачканным ртом, выглядел действительно потешно. Она все смеялась, а он выводил на бумаге: дом 25…
И тут на ум его пришли слова «бывалого»: «С женщиной легко познакомиться…»
Рука его остановилась, он как-то враз протрезвел, поглядел на хохочущую беззаботно девушку.
…Все, что он писал дальше, облизывая испачканную губу и не глядя ей в глаза, было уже неправдой.
— …дом 25, корпус 3, квартира 51… На вот, держи…
— Ага, спасибо вам, спасибо, какой вы все-таки смешной у меня, хоть и умный, хоть и красивый…
А когда шли обратно и она держала свою руку в его руке и наверняка не сводила с него глаз — он был в том уверен, он мучительно искал повод вернуться в дом, где только что все свершилось, где она, несмотря ни на что, была святой, а он, он — и он не находил слов. Ему хотелось теперь только одного — сравняться с ней, исправить то, что было сделано, нет, не им — другим кем-то, он не способен на такое, не способен…
— Вот мы и пришли, — сказала она, разжимая пальцы, выпуская его руку.
Он еще пошарил в темноте в надежде уцепиться за ее нежные пальцы — за них еще можно было удержаться, но не нашел их.
«Куда я без вас. Ведь я ни за что не отыщу Кочегурку в этой кромешной темноте», — успел подумать он. А она исчезла, как будто ее и не было никогда.
Рисунок Петра ПИНКИСЕВИЧА