Мир тишины - [5]
5
Язык - это не просто один мир, приложенный к другому. Ему присуща своя полнота, выходящая за рамки целесообразности: в языке сокрыто больше, чем это необходимо для простого понимания и осведомления.
Конечно, язык принадлежит человеку, однако он так же принадлежит и самому себе. В нём заложено больше боли, радости или печали, чем человек способен извлечь из себя. Язык словно придерживает для себя необходимое ему количество боли, скорби, радости или восторга.
Язык порой творит поэзию по собственной воле и для себя самого.
6
Тишина способна прожить без речи, но речь не может обойтись без тишины. Лишившись её фона, слово теряет свою глубину. Тем не менее, тишина сама по себе не превосходит речь, но наоборот, мир тишины без речи - это мир до сотворения, мир неоконченного творения, мир грозный и опасный для человека. Лишь с появлением из тишины речи, тишина преображается из состояния, предшествовавшего творению, до состояния творения, из доисторического - в историю человека, вступает в близкую связь с человеком, становясь частью человека и законной частью речи. Но речь превосходит тишину, потому что именно речь, а не тишина, впервые конкретно выражает истину.
С помощью речи человек впервые становится человеком:
Случайность ли, что греки определяли существо человека как ζωον λογον ξχων? Позднейшее толкование этой дефиниции человека в смысле animal rationale, «разумное живое существо», правда не «ложно», но оно скрывает феноменальную почву, из которой извлечена эта дефиниция присутствия. "Человек кажет себя как сущее, которое говорит." (Хайдеггер)
Тишина осуществлена, лишь когда речь выступает из тишины. Речь придаёт ей значение и честь. Посредством речи тишина - это дикое, дочеловеческое животное - превращается в нечто прирученное и человеческое.
Наружная сторона речи такова: она подобна твёрдым кускам лавы, изверженным на поверхность тишины, разбросанным вокруг и соединённым между собой этой же поверхностью.
И так же, как масса воды больше массы суши, так же и тишина массивнее речи. Но так же, как в суше сконцентрировано больше бытия, чем в море, так и речь могущественнее тишины, ибо в ней скрыта большая интенсивность бытия.
7
Тишина вплетена в саму текстуру человеческого естества, но она лишь основание, на котором возникает нечто более высокое.
Для человеческого ума тишина - это знание о Deus absconditus, скрытом боге.
Для человеческого духа тишина - это тихая гармония с вещами и слышимая гармония музыки.
Для человеческого тела тишина - это родник красоты.
Но так же, как красота больше, чем физическое тело, музыка больше, чем неслышное основание духа, открывшийся Бог больше, чем Deus Аbsconditus, так же и речь больше, чем тишина.
8
По собственной воле человек никогда не смог бы произвести речь из тишины. Речь настолько совершенно отлична от тишины, что человеку самому никогда не удалось бы совершить скачок из одной в другую.
То, что два таких противоположных феномена, как тишина и речь, оказались так тесно взаимосвязаны друг с другом, никогда не могло быть достигнуто только человеком, но лишь при участии Самого Бога. Смежность тишины и речи есть свидетельство Божественного блеска, в котором они безупречным образом соединены.
Речь была просто обязана возникнуть из тишины. С тех самых пор, когда из уст Христа до людей снизошло Слово Божье, его "тихий, негромкий голос", для них отныне и навеки открылся путь превращения тишины в речь. Слово, явленное две тысячи лет назад, шло к человеку испокон веку, а значит, испокон веку между тишиной и речью зияла брешь. Событие же двухтысячелетней давности оказалось настолько чудесным, что речь сумела прорвать существовавшую с незапамятных времён тишину. Незадолго до того, как это случилось, тишина дрогнула и раскололась надвое.
ТИШИНА, ЯЗЫК И ИСТИНА
1
Язык превосходит тишину, поскольку в нём оглашается истина. Тишине также присуща истина, но она не так характерна для тишины, как для языка, в котором она обитает. Истина присутствует в тишине лишь постольку, поскольку тишина принимает участие в истине, т.е. в порядке бытия вообще. Пребывая в тишине, истина пассивна и бездеятельна; в языке же она бдительно-бодрствующа, т.к. именно в языке принимаются активные решения на основании истинности или ложности.
Сам по себе, по своей природе, язык сиюминутен - он словно недолгая пауза, возникшая в долговременности тишины. И именно истина одаряет язык долговременностью, позволяя ему таким образом стать самостоятельным миром; истина, заключённая в непреходящести языка, придаёт ему качество долговременности. Породившее язык безмолвие отныне преображено в окутанную тайной истину.
Без истины язык был бы не более чем общим туманом из парящих над тишиной слов; без истины он превратился бы в невнятное бормотание. Именно она делает язык ясным и устойчивым. Грань, разделяющая истину и ложь, есть та самая опора, которая удерживает язык от падения. Истина - это подмости, дающие ему точку опоры в тишине. Как мы уже сказали, язык стал самостоятельным миром - миром, не только оставившим за своей спиной мир тишины, но и миром, распоряжающимся миром истины на своё собственное усмотрение.
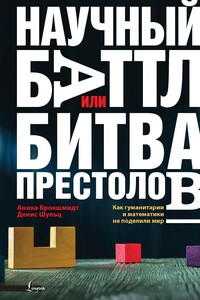
Вы когда-нибудь задавались вопросом, что важнее: физика, химия и биология или история, филология и философия? Самое время поставить точку в вечном споре, тем более что представители двух этих лагерей уже давно требуют суда поединком. Из этой книги вы узнаете массу неожиданных подробностей о жизни выдающихся ученых, которые они предпочли бы скрыть. А также сможете огласить свой вердикт: кто внес наиценнейший вклад в развитие человечества — Григорий Перельман или Оскар Уайльд, Мартин Лютер или Альберт Эйнштейн, Мария Кюри или Томас Манн?

Рене Декарт — выдающийся математик, физик и физиолог. До сих пор мы используем созданную им математическую символику, а его система координат отражает интуитивное представление человека эпохи Нового времени о бесконечном пространстве. Но прежде всего Декарт — философ, предложивший метод радикального сомнения для решения вопроса о познании мира. В «Правилах для руководства ума» он пытается доказать, что результатом любого научного занятия является особое направление ума, и указывает способ достижения истинного знания.
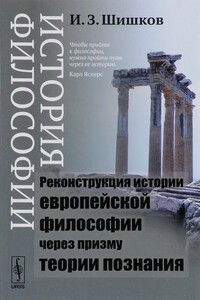
В настоящем учебном пособии осуществлена реконструкция истории философии от Античности до наших дней. При этом автор попытался связать в единую цепочку многочисленные звенья историко-философского процесса и представить историческое развитие философии как сочетание прерывности и непрерывности, новаций и традиций. В работе показано, что такого рода преемственность имеет место не только в историческом наследовании философских идей и принципов, но и в проблемном поле философствования. Такой сквозной проблемой всего историко-философского процесса был и остается вопрос: что значит быть, точнее, как возможно мыслить то, что есть.
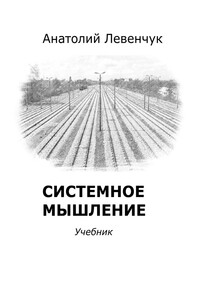
Системное мышление помогает бороться со сложностью в инженерных, менеджерских, предпринимательских и культурных проектах: оно даёт возможность думать по очереди обо всём важном, но при этом не терять взаимовлияний этих по отдельности продуманных моментов. Содержание данного учебника для ВУЗов базируется не столько на традиционной академической литературе по общей теории систем, сколько на современных международных стандартах и публичных документах системной инженерии и инженерии предприятий.

В книге представлен результат совместного труда группы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Украины и Узбекистана, предпринявших попытку разработать исследовательскую оптику, позволяющую анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории – «экзистенциальный жест» гуманитария в рушащемся мире. Судьбы представителей российского академического сообщества первой трети XX столетия представляют для такого исследования особый интерес.Каждый из описанных «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже готового способа интерпретации происходящего.Книга адресована историкам гуманитарной мысли, студентам и аспирантам философских, исторических и филологических факультетов.

В своем исследовании автор доказывает, что моральная доктрина Спинозы, изложенная им в его главном сочинении «Этика», представляет собой пример соединения общефилософского взгляда на мир с детальным анализом феноменов нравственной жизни человека. Реализованный в практической философии Спинозы синтез этики и метафизики предполагает, что определяющим и превалирующим в моральном дискурсе является учение о первичных основаниях бытия. Именно метафизика выстраивает ценностную иерархию универсума и определяет его основные мировоззренческие приоритеты; она же конструирует и телеологию моральной жизни.