Милосердие - [238]
До следующего угла они снова шли молча. «Вы чем-то удручены?» — вдруг обернулась Агнеш к другу, заметив наконец перемену в шагающей рядом тишине. «Только собственной глупостью, — немного поколебавшись, высказал Халми то, что оседало в нем мягкими хлопьями дурного настроения. — Это относительно нашего спора: давать или брать. Когда я за вашей матушкой признал правоту». — «Я уже забыла немного». — «Но вы ведь тогда даже взглянули на меня. Словно сказали: дескать, ты и нас имеешь в виду?.. Я действительно вопреки самому себе говорил». — «Мне кажется, у вас просто фантазия разыгралась. Конечно, человек за свои взгляды, — засмеялась она, — полностью ручаться не может». — «Во всяком случае, вы имели все основания высказать то, что я в этом взгляде увидел. Ведь если каждый должен отдать столько, сколько он получил, то по какому такому праву ты сидишь здесь, рядом со мной?» — «В таких вещах полного соответствия быть не может, — сказала Агнеш и покраснела: вдруг в ее взгляде действительно промелькнуло ехидство? — И вообще, речь шла о труде и его оплате». — «Это, однако, больше, чем труд и плата. Я ведь часто сижу и про себя удивляюсь: за что мне такое? Имею ли я право принимать это?» — «Что — это?» — «То, что вы, от доброго сердца и из жалости, на меня расходуете». — «Я? На вас? Но что я такое на вас расходую, Фери?» — засмеялась Агнеш. «Все. Разговариваете со мной. Терпите, когда я ковыляю рядом. Вот, пробовали облагородить меня. Не хотите, чтобы я из ненависти верил в то, во что верю. А чтобы все делал только из душевной щедрости, как вы…»
Они шли через площадь — две маленькие фигурки в целом поле лунного света, под вытянувшимися на десятки метров тенями скульптур на монументе Тысячелетия. «Вы тоже мне много дали, Фери», — серьезно сказала Агнеш. «Я? Полно!.. Что мог я вам дать?» — вырвался, на сей раз как знак презрения к себе, запрещенный смешок. «Например, я узнала мужчину (она чуть-чуть подчеркнула это слово), который во что-то верит. И даже готов пожертвовать своим поприщем во имя принципов. Поприщем, за которое вы и ваши родители столько боролись…» Фери растроганно выслушал эти слова, в которых он, словно в зеркале, увидел вдруг лучшую часть своего «я». «Вот если бы вы сказали, — побудило его на признание столь редкое для него состояние духа, — что узнали человека, который чтит вас больше всего на свете…» — «Да, и это тоже, — ответила Агнеш. — Поверьте, это так приятно — знать, что где-то о тебе существует такое представление… Агнеш, какой она должна быть. И что ты должна быть достойна этого представления… Но знаете, с другой стороны, это не так уж приятно, — попробовала она взять более легкий тон. — Вы не боитесь, что когда-нибудь я как раз по этой причине возьму и сбегу от вас? Чтобы не нужно было стараться быть все время такой, какой вы меня считаете».
Они дошли до конца аллеи Штефании, пересекающей Лигет. Луна, перед этим превращавшая огромную мощеную площадь в синеватое ледяное поле, теперь, потесненная темным массивом Лигета, превратила склонившиеся над аллеей деревья в фантастические кулисы какой-то грандиозной мистерии о гибели богов. Халми, которого наросшая на нем от ударов жизни кора сделала нечувствительным, среди прочего и к природе, даже остановился, размягченный в своей растроганности и печали, словно впервые осознав красоту мира. «Какая необычная аллея! — сказал он, все еще по возможности избегая поэтических выражений. — Видите, — уступил он вздымающемуся в груди смутному чувству, которое в другом случае обязательно подавил бы, — будь вы сейчас с другим кем-нибудь, не со мной, вы бы сказали: давай побежим». Фери никогда не жаловался на свое увечье, так же как никогда не восхищался Дунаем, или вечером, или какой угодно красивой аллеей; и Агнеш почувствовала: не что иное, как отчаянная надежда, заставляет его с горьким самоуничижением вспоминать про свое несчастье. Сейчас, именно сейчас надо его убедить, что мир принадлежит и ему, надо ударить его оземь, как превращенного в лягушку королевича. «А почему я не могу это вам сказать? — смотрела она на него почти строго. — Вы тоже умеете бегать. За трамваем — я сама видела». (Правда, это было грустное зрелище, если бы Халми знал, что она на него смотрит, наверняка бы остановился.) И она взяла его за руку: «Ну-ка, давайте побежим».
Фери, испуганно отшатнувшись, попробовал выдернуть у нее руку. Но прохладные, сильные пальцы Агнеш цепко держали его, и каждый палец словно подбадривал: не бойся, я над тобой не буду смеяться. Пальцы эти он сейчас не посмел бы (это было бы оскорбление на всю жизнь) оторвать от своей руки. Он сделал несколько шагов за Агнеш: хорошо, за руку так за руку. Но Агнеш медленно, постепенно, чтобы он успевал за ней, — успевал не только хромой ногой, но и всей своей упирающейся душой, — ускоряла шаг, затем, все еще глядя на Халми, потихоньку побежала. Фери, если он не хотел выглядеть грубым или упасть, приходилось к ней приноравливаться, судорожно подпрыгивая на хромой ноге. На лице у него сначала была конфузливая досада, затем, словно у капризного ребенка, которого щекочут, появилась слабая, неуверенная улыбка и наконец, когда Агнеш больше не ускоряла шаг и он в самом деле бежал рядом с ней, заиграло стыдливое удовольствие. Грудь его вздымалась, в глубине рта, приоткрытого в радостном и застенчивом смехе, виднелся язык, глаза возле длинного носа пьяно косили. Он очень, очень был некрасив, бедненький! Но Агнеш, которая бежала на шаг впереди и тянула его за собой, вдруг ощутила такую огромную нежность к нему, какой, наверное, даже к отцу никогда не испытывала; жалость сестры к младшему брату, любовь к ближнему, женское покровительство — все это могло быть лишь приблизительным определением этой нежности. «Ну, теперь хватит», — сказал Фери, чувствуя, что Агнеш немного замедляет бег. «Вот видите, вполне можем мы с вами бегать», — остановилась Агнеш и, притянув к себе Фери, поцеловала его в потный, разгоряченный лоб. И казалось ей в эту минуту, что она обнимает не только Фери, но и мать, отца, тетушку Бёльчкеи, умирающую Мату, всех своих безнадежных больных — все огромное хромое человечество, которому она должна внушить веру в то, что оно может бегать, да при этом следить еще, чтобы оно не споткнулось, не запуталось в своих непослушных ногах.

Мастер психологической прозы Л. Немет поднимал в своих произведениях острые социально-философские и нравственные проблемы, весьма актуальные в довоенной Венгрии.Роман «Вина» — широкое лирико-эпическое полотно, в котором автор показывает, что в капиталистическом обществе искупление социальной вины путем утопических единоличных решений в принципе невозможно.В романе «Траур» обличается ханжеская жестокость обывательского провинциального мира, исподволь деформирующего личность молодой женщины, несущего ей душевное омертвение, которое даже трагичнее потери ею мужа и сына.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Когда Карла и Роберт поженились, им казалось, будто они созданы друг для друга, и вершиной их счастья стала беременность супруги. Но другая женщина решила, что их ребенок создан для нее…Драматическая история двух семей, для которых одна маленькая девочка стала всем!

Елена Чарник – поэт, эссеист. Родилась в Полтаве, окончила Харьковский государственный университет по специальности “русская филология”.Живет в Петербурге. Печаталась в журналах “Новый мир”, “Урал”.

Счастье – вещь ненадежная, преходящая. Жители шотландского городка и не стремятся к нему. Да и недосуг им замечать отсутствие счастья. Дел по горло. Уютно светятся в вечернем сумраке окна, вьется дымок из труб. Но загляните в эти окна, и увидите, что здешняя жизнь совсем не так благостна, как кажется со стороны. Своя доля печалей осеняет каждую старинную улочку и каждый дом. И каждого жителя. И в одном из этих домов, в кабинете абрикосового цвета, сидит Аня, консультант по вопросам семьи и брака. Будто священник, поджидающий прихожан в темноте исповедальни… И однажды приходят к ней Роза и Гарри, не способные жить друг без друга и опостылевшие друг дружке до смерти.
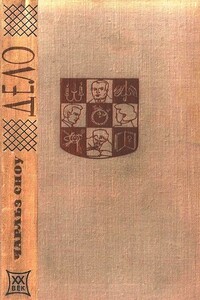
Действие романа «Дело» происходит в атмосфере университетской жизни Кембриджа с ее сложившимися консервативными традициями, со сложной иерархией ученого руководства колледжами.Молодой ученый Дональд Говард обвинен в научном подлоге и по решению суда старейшин исключен из числа преподавателей университета. Одна из важных фотографий, содержавшаяся в его труде, который обеспечил ему получение научной степени, оказалась поддельной. Его попытки оправдаться только окончательно отталкивают от Говарда руководителей университета.
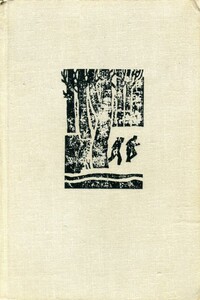
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
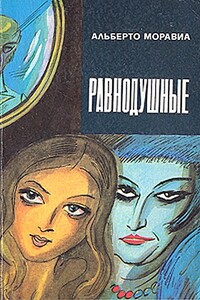
«Равнодушные» — первый роман крупнейшего итальянского прозаика Альберто Моравиа. В этой книге ярко проявились особенности Моравиа-романиста: тонкий психологизм, безжалостная критика буржуазного общества. Герои книги — представители римского «высшего общества» эпохи становления фашизма, тяжело переживающие свое одиночество и пустоту существования.Италия, двадцатые годы XX в.Три дня из жизни пятерых людей: немолодой дамы, Мариаграции, хозяйки приходящей в упадок виллы, ее детей, Микеле и Карлы, Лео, давнего любовника Мариаграции, Лизы, ее приятельницы.
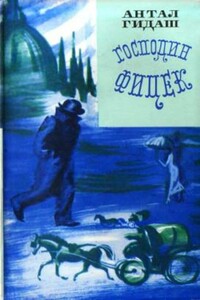
В романе известного венгерского писателя Антала Гидаша дана широкая картина жизни Венгрии в начале XX века. В центре внимания писателя — судьба неимущих рабочих, батраков, крестьян. Роман впервые опубликован на русском языке в 1936 году.