Метамодерн в музыке и вокруг нее - [10]
Итак, праздник постмодернизма – это тотальный потлач, в котором сгорают различия и всё смешивается со всем, всё уравнивается. Однако его тотальность иная, чем в площадном смехе, где ирония служит способом упорядочивания мира, примирения и уравнивания себя с ним; в постмодернизме ирония – наоборот, необходима для дистанцирования человека от мира в виде других людей и социальных конструктов, его обособления, ирония здесь – спасательный круг в море метанарративов. Площадная ирония укрепляет коллективное сознание, постмодернистская – индивидуальное.
Кризис тотальной постмодернистской иронии – одна из главных внутренних предпосылок появления метамодерна: сама его суть – превращение постмодернистской иронии в постиронию.
Постирония приходит на смену постмодернистской иронии как более сложное, составное явление, как вертикаль вместо горизонтали: постмодернистская ирония распространялась по горизонтальной поверхности, постирония осциллирует по вертикали. В метамодерне ирония постмодерна не преодолевается полностью, но остается глубоко внутри, как составная часть единого сложного высказывания метамодерна. Метамодерн устает от иронии постмодерна, но уже не может смотреть на мир без нее – поэтому ирония продолжает быть в него включена.
По Умберто Эко, ирония как «метаязыковая игра» и «высказывание в квадрате» доступна пониманию как считывающего максимум смыслов интеллектуала, так и воспринимающего все абсолютно серьезно «простака»: в этом допущении серьезности, разрешении на прямоту прочтения также видны зачатки постиронии.
И постмодернистская, и метамодернистская ирония:
– тотальны, всепроникающи, базисны для всей парадигмы
– смешивают массовое и элитарное
При этом:
Ирония средневековой смеховой культуры, или, шире, ирония площади – близка постиронии своей тотальностью, массовостью и взаимоперетеканием противоположностей.
В отличие от романтической иронии, отделявшей ее субъекта от обывательского большинства, площадная ирония не отделяется от своего объекта: «этот смех направлен и на самих смеющихся. Народ не исключает себя из становящегося целого мира. Он тоже незавершен, тоже, умирая, рождается и обновляется»[77]. М. Бахтин обозначает «миросозерцательный и утопический характер этого праздничного смеха, его направленность на высшее»[78].
Бахтин подчеркивает принципиальные отличия площадной иронии от иронии романтизма: особенно явственно они видны в сопоставлении мотивов безумия и маски: «Мотив безумия ‹…› характерен для всякого гротеска, потому что он позволяет взглянуть на мир другими глазами, не замутненными „нормальными“, то есть общепринятыми, представлениями и оценками. Но в народном гротеске безумие – веселая пародия на официальный ум, на одностороннюю серьезность официальной „правды“. Это – праздничное безумие. В романтическом же гротеске безумие приобретает мрачный трагический оттенок индивидуальной отъединенности»[79]. Маска в романтическом гротеске «что-то скрывает, утаивает, обманывает», приобретает мрачный оттенок, за ней «часто оказывается страшная пустота, „Ничто“», в то время как в народном гротеске «за маской всегда неисчерпаемость и многоликость жизни»[80], возрождение и обновление.
В смеховой народной культуре ирония приобретает всеобъемлющий характер: через нее объясняется мир и человек в нем. «Низовой смех» – обратная сторона серьезности: изнанка догматов и ограничений, накладываемых церковью, государством, и даже самой жизнью как таковой.
«Народное тело», по Бахтину, в своем переворачивании верха и низа идентифицируется и с тем, и с другим одновременно, по сути – пребывая в вертикальной метамодернистской осцилляции.
Вертикальное осциллирование в площадном смехе конкретно и, в какой-то степени, материально: «„Верх“ и „низ“ имеют здесь абсолютное и строго топографическое значение. Верх – это небо; низ – это земля; земля же – это поглощающее начало (могила, чрево) и начало рождающее, возрождающее (материнское лоно)»[81]. Верх и низ порождают пары других оппозиций – рождение и смерть, поглощение и испражнение, радость и страдание, начало и конец – которые так же конкретны и так же непрерывно перетекают одна в другую – что очень близко постироническому процессу.
Зримость и конкретность этой амбивалентности ярче всего выражена в «двойном» гротескном образе тела, которое являет собой «два тела в одном: одно – рождающее и отмирающее, другое – зачинаемое, вынашиваемое, рождаемое. Это – всегда чреватое и рождающее тело или хотя бы готовое к зачатию и оплодотворению – с подчеркнутым фаллом или детородным органом. Из одного тела всегда в той или иной форме и степени выступает другое, новое тело»[82].
«Смех» площадной культуры принципиально не сатиричен: он не связан с установлением «правды» на одной из сторон, а равно принимает обе. Поэтому и такого рода искусство не вызывает смеха в привычном смысле слова, его цель – смех и серьезность в одновременности, переживаемые как ритуальный процесс (игра).
«Пасхальный смех» («risus paschalis») – это не просто антитеза христианской традиции, но его необходимая антитеза, более того – составная часть. Осмеивание явлений в таких текстах, как

В настоящей книге собрано более тридцати интервью Энди Уорхола (1928–1987), разделенных по трем периодам: 60-е, 70-е, 80-е. Изобретательность Уорхола в интервью обычно оставалась в рамках формата «вопрос-ответ», но намекала, что это лишь формат, и давала интервьюеру право его разрушить. Своими вроде бы банальными ответами художник создавал простор для творческих способностей интервьюера, поощряя их еще больше, когда менялся с интервьюером местами или как-то иначе размывал роли интервьюера и интервьюируемого. Можно ли считать эти интервью искусством? Если рассмотреть их в широком контексте, на фоне всего корпуса творчества Энди Уорхола во всех техниках и видах искусства, то, по мнению составителей этого сборника, придется ответить: «Можно».

В книге «Как понять акварель» известный художник и опытный преподаватель Том Хоффманн раскрывает тайны акварельной живописи. Автор делится профессиональными хитростями, подробно освещая взаимосвязь между цветом, тоном, влажностью и композицией. Это пособие поможет и новичкам, и опытным художникам усовершенствовать свою технику и найти баланс между осторожностью и риском. Ведь именно это – самые важные навыки акварелиста и признак мастерства. На русском языке публикуется впервые.

Шмит Ф. И. (1877–1937) – русский историк культуры и искусства, создатель эволюционно-циклической концепции развития искусства. Шмит полагал, что искусство, как и вся художественная культура, развивается по своим собственным законам, которые необходимо установить. Кроме разработки «законов», создания собственно категориально-понятийного аппарата ему принадлежит первенство и в анализе других культурологических проблем.В том вошли основные работы Шмита: «Искусство. Основные проблемы теории и истории», «Музейное дело.
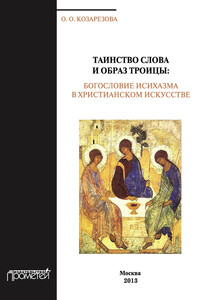
В монографии рассматривается догматический аспект иконографии Троицы, Христа-Спасителя. Раскрывается символика православного храма, показывается тесная связь православной иконы с мистикой исихазма. Книга адресована педагогам, религиоведам, искусствоведам, студентам-историкам, культурологам, филологам.

Этот небольшой очерк знакомит читателей с жизнью и творчеством знаменитого французского скульптора Этьена Мориса Фальконе (1716–1791). Он прожил в России двенадцать лет и создал всемирно известный памятник Петру I — „Медный всадник" (Ленинград). В Эрмитаже хранятся произведения, выполненные скульптором на родине.
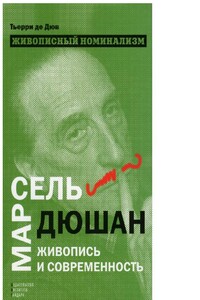
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.