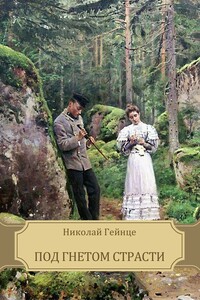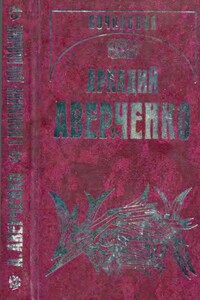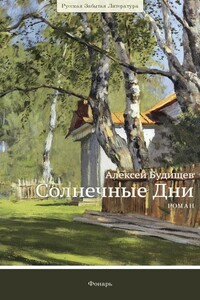Бутенко заикался, заминался, не находил слов. Дема смотрел во все глаза на Бутенко и, казалось, так же мало понимал его речи, как мало понял Бутенко его «панораму», смысл которой был так ему понятен и дорог.
Бутенко, так и не кончив своей речи, опять сел в кресло и замолчал, по-прежнему нервно перебирая дрожащими пальцами часовую цепочку.
А Дема в изумлении продолжал смотреть на Бутенко, решительно не зная, почему он так испугался. «Стало быть… стало быть, это – не он!» – мелькнуло в голове Демы.
Дема еще несколько раз взглянул искоса на Бутенко – и ему как будто стало даже жалко его.
– Пока прощения просим… И извините, – тихо проговорил Дема и, едва ступая на носках и кланяясь, выбрался из квартиры Бутенко.
«Стало быть… это не он!» – решил окончательно Дема.
Дема шел домой уже далеко не так важно и торжественно, как прежде.
Войдя в свою камору, он прежде всего встретил сердито-пытливый взгляд возбужденного Липатыча.
– Где был? – сурово спросил Липатыч.
– В церковь сходил, – отвечал Дема, снимая осторожно свои парадные одеяния.
– А еще где?
– А еще… к нему заходил.
– Так я и знал! – раздраженно проворчал Липатыч. – Ну и что ж ты ему говорил?
– Все говорил… То и говорил, что вы мне в поле говорили. Вот все это и говорил… А больше ничего не говорил… Мое дело сторона. Я ежели и говорил про себя – так одно, что надо быть справедливым, особливо старым людям… Вот это говорил.
– Ну и что ж он? – промычал Липатыч, скрывая за сиплым басом охватившее его волнение.
– Что ж он!.. Стало быть… стало быть – это не о н, Вавила Липатыч… Так думать надо – ошибка вышла.
– Не он, говоришь? – быстро спросил Липатыч с загоревшимися глазами.
– Нет, не он, – решительно ответил Дема. – Потому, ежели бы он…
– Молчи… не смей!.. Не говори ничего мне больше! – вдруг перебил его, сверкая возбужденными глазами, Липатыч и, схватив свой блин, быстро вышел из каморы.
* * *
Где пропадал Липатыч этот день – так и осталось тайной для Демы, хотя он вечером и обошел все заводские трактиры и портерные. Липатыч даже и не ночевал дома. А дня через два в трактире происходила такая сцена.
Липатыч, с котомкой за плечами, стоял среди толпы рабочих, окружившей его. Рядом с ним стоял немец и испуганно улыбался.
– Ну, братцы, прощайте! – говорил Липатыч, нервно потряхивая своей львиной гривой. – Не поминайте лихом! Куда ни шло – погуляю в последний разок по матушке-Рассее!.. Мне уж один конец, а только мы ее, эту правду-матку, выищем, мы ее со дна моря найдем. Нам не придется с нею жить – вам пригодится… А мы ее с немцем вам предоставим… Это, брат, шалишь: добро даром в миру не пропадает!..
– Куда будем ходить, господин механикер? – грустно и боязливо говорил немец, дрожащими пальцами перебирая по цилиндру.
– Со мной не бойся! Хуже нам с тобой не будет, – утешал его Липатыч, – а что лучше найдем – все наше будет!.. Аида, немец!.. Прощайте, братцы!.. Главное – живите дружнее… вот как мы с' Демой жили! Кабы еще не это, – так…
И Липатыч отчаянно махнул рукой.
– Ну, а за озорство мое не обессудьте… Что делать!.. Такими, значит, нас мать-Рассея зародила да такими вот ив гроб кладет!.. Аида, немец!..
Когда в ответ ему разнесся по трактиру сочувственный гул голосов, Липатыч степенно раскланялся на обе стороны и надел свой блин.
– Прощайте, братцы! А это мы с немцем все расследуем, как и что…
Липатыч вышел своей обычной гордой походкой, гоголем; за ним поплелась жалкая фигура немца в не менее жалком цилиндре и пальмерстоне, совершенно не понимая, какая сила увлекала ее за Липатычем.
Рабочие несколько минут молчали; грустно им было расставаться с Липатычем: жалко им было его и знали они, что не далеко уйти старику за своей заветной «мечтой», что уже ждет его, не нынче-завтра, одинокая могила, но все же им было отрадно думать, что среди них жил Липатыч и что это был свой человек для них.