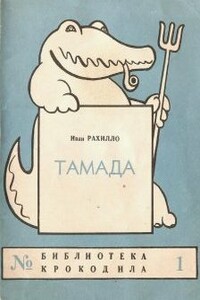Мухо из нас самый старший, ему уже стукнуло семнадцать. Построив караул, он каждому лично вручает винтовку и пять патронов. Одну обойму в запас.
Мой пост в глубине двора, здесь густо разрослись акации. Тень от луны чернильно очерчивает на земле прямоугольный квадрат здания бывшего атамана отдела. Накинув на плечо ремень винтовки, неторопливо прохаживаюсь — туда и обратно, туда и обратно… Позиция удобная: я в тени, передо мной освещённый луной двор, но дальше, чудится, в зарослях акаций притаился кто-то чужой и недобрый. Но это только чудится, хотя рука крепче сжимает ремень, готовая в любую секунду сорвать с плеча винтовку и окликнуть пароль.
По городу уже ходить запрещено: военное положение. Тень от колокольни становится короче, луна взбирается выше, время приближается к полночи. На горе, за Кубанью, в поселке Фортштадт, одиноко мигает огонёк: кто-то там не спит, бодрствует. Город постепенно цепенеет и впадает в сон. Впереди вся ночь, можно и поразмышлять… Мысли возникают и уходят, цепляясь друг за дружку, самые разные и неопределённые. Я думаю о том, как удивительно и неправдоподобно луна преображает и видоизменяет окружающий мир, при солнечном свете наполненный живыми и яркими красками: жёлто-зелёных акаций, заросших поздними астрами тёмно-фиолетовых клумб, белоснежных стен здания отделкома, голубых решёток палисадника. Я вижу, что деревья вовсе и не зелёные, а синие, светло-серый телеграфный столб сейчас иссиня-оливковый. Я вижу цвет и предметы по-своему, и меня интересует вопрос: а так ли видят это другие люди? Поймут ли они меня, если я напишу дерево не зелёной краской, а синей? С большим волнением вглядываюсь я в воздух, в освещённые крыши, в полусумрак теней и вижу, явственно вижу, что тени совсем не чёрные, как это кажется с первого взгляда, а какие-то иные, с полутонами и переходами, и даже прозрачные. Никак не подберу подходящих слов для определения своего странного состояния…
Увлёкся лунным колоритом и чуть было не пропустил Мухо, тихо подошедшего для проверки поста из-за угла.
Всё нормально. Сменяемся через два часа.
Целомудренная тонкость лунных полутонов и нежных цветовых сочетаний вызывает у меня непреодолимое желание по возвращении домой схватиться за кисти и краски. Написать эту ночь или, по крайней мере, запомнить главное из увиденного и запечатлеть потом в картине. Я заметил, что ночью, в одиночестве, острее и выразительнее понимаешь красоту. Несение караульной службы для меня радость.
Прошлый раз на занятиях отряда мы овладевали ходьбой по узкому бревну и преодолению препятствий. С винтовкой влезали в окно, перебирались через забор, ползли по-пластунски под проволочным заграждением: два дня потом болели мышцы спины и ног от непривычной работы. Но мы полны боевого задора и желания как можно скорей постигнуть военные науки.
Мысли мои постепенно, как намагниченная стрелка компаса, с неизменным постоянством устремляются к тому дому на пустыре, где я учился три года и где живет Раиса Арсентьевна со своей младшей сестрёнкой Любашей, нашей тоненькой Свечкой. Она принята в комсомол и сегодня с большим скандалом ушла домой, возмущенная тем, что её не взяли в караул по охране города. Подумать только, сколько перцу в этой худенькой девчонке! Я так ясно вижу её беловолосую головку, серьёзные, нахмуренные брови, даже слышу её шаги, что невольно оборачиваюсь, обманутый своим воображением. Втайне я давно уже в неё влюблён, но пусть меня живым зароют в землю, режут на куски, если я хоть единым словом или движением выдам кому-либо эту свою самую сокровенную тайну! Всё мне в ней мило — и эта её кажущаяся хрупкость, хотя я отлично знаю её стойкий и неуступчивый характер, её серьёзное лицо, эти странно необъяснимые в своей завораживающей силе светлые глаза, её манера разговаривать, смеяться, наконец, читать стихи любимых поэтов, выражающих её настроение и состояние.
Я с интересом наблюдаю, как рождается утро. Остро сверкнуло, будто вскрикнуло, солнце на золоте соборного креста. Ничто не предвещало той страшной трагедии, что случилась у нас через два часа.
В шесть утра караулы были сняты. Мухо отобрал у нас винтовки и, лично их разрядив, поставил с открытыми затворами в угол комнаты.
Двенадцать винтовок.
Ребята курили во дворе на скамейке, а Мухо, в ожидании прихода Калиткина, затеял с тринадцатилетним рассыльным отделкома игру в дуэль. Нацеливаясь друг в друга из незаряженных винтовок, они по команде спускали курки — кто раньше.
В это время в караульное помещение вошёл гимназист Лезгинцев. Он был толстощёк и пузат. Из-за одного лишь внешнего вида его не хотели принимать в комсомол. Желая выслужиться, Лезгинцев раньше всех приходил на занятия, выполнял любое задание ребят. Войдя в комнату, он тоже подключился в игру и, схватив из угла разряженную винтовку, прицелился в голову Мухо.
— Эх вы, — весело выкрикнул он, — разве так стреляют! Вот как надо стрелять!
Лезгинцев нажал на спуск. Раздался неожиданный грохот, и комната сразу заполнилась кислым пороховым дымом. Когда мы вбежали в комнату, то увидели бледного, трясущегося Лезгинцева, а на полу — распростёртое, безжизненное тело Мухо, его широкоглазое лицо пыталось ещё улыбаться…