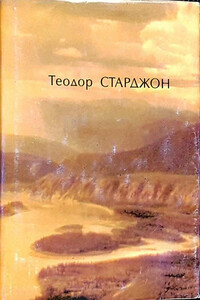Майков - [5]
Вот образцов у него очень много, и часто он любит перечислять вещи, как, например, в «Иафете», столь сильном и прекрасном в первых строках, где перечисление поэтично (может быть, потому, что там выступают вещи живые):
Но зато в «Савонароле» или в «Клермонтском соборе» перечень слишком арифметичен и подробен, слишком обнажен:
Тут же перечисление и ярких предметов-людей – герцогов, баронов, к которым Майков вообще так неравнодушен…
Он любит вещи, «серебряные блюда и хрустальные сосуды», «среброзвонкие чаши», обстановку древнего пиршества. Эта любовь к вещам, особенно античным, это их изобилие и способ их изображения, это частое описание дворцов, палат, тканей делают его поэзию похожей на картины Семирадского. И эти же особенности в соединении с тем, что наш писатель черпает свои сюжеты отовсюду, приводят к тому, что иногда о собрании стихотворений Майкова хочется сказать: лавка его стихотворений…
В самом деле, одной из его отличительных черт, находящейся в связи с тем, что, как мы уже отметили, он по большей части стоит вне своей темы, экстерриториален по отношению к ней, – одной из его черт является случайность или, по крайней мере, нестрогая необходимость в выборе сюжетов. Он перелистывает страницы истории, делает смотр векам и народам, для того чтобы выбрать оттуда интересные эпизоды. Поэт содержания, фактов, сюжетов, он должен был со скрижалей истории, а не из собственной небогатой души черпать темы для своих стихотворений. Очевидно, всегда таилось в нем что-то формальное и отзывающееся на случай – поэтическая отписка. Мало органичности в его литературных исканиях. Так как он, для поэта, сведущ, то ему нетрудно припомнить где нужно интересный исторический пример, который он и обрамляет своим стихотворением, – и выходит красиво. Например, в пьесе «После посещения Ватиканского музея»:
Это прекрасно, но только – для того, конечно, кто знает про скифов и про Византию.
В силу внешнего отношения к сюжетам классицизм Майкова превращается в ложноклассицизм. Здесь все – только воспоминание, только заимствование. «На этих мраморах густая пыль лежит»; залы для него – «точно храмы истории»; нашему классику часто приходится противопоставлять настоящее прошлому, запустение – расцвету. Он для современности подыскивает параллели в классической старине, и, когда должна была приехать в город поэтесса графиня Растопчина, он пишет стихотворение:
и в этом стихотворении фигурируют и архонты, и жрецы. Но жизнь, переведенная на латинский или греческий язык, от этого не становится античной.
Кроме случайности и пестрого подбора сюжетов, отрицательной чертой Майкова, в общем тексте его творчества естественной и понятной, служит и то, что в его пересказах из истории, в его обработке тем большей частью отсутствует колорит местности и момента, – и он этого отсутствия как будто даже не замечает и нисколько им не смущен; ибо он не Протей, как Пушкин, он чужд способности действительного перевоплощения. Он вкладывает в уста своих древних героев речи модернизованные, мысли, носящие явный отпечаток самого Майкова, – но Майкова как рассудка, а не как души. В своих литературных поисках найдя соответствующий сюжет, он ничего к нему не прибавляет; он к нему не придает и себя, своей подлинной личности. От его пересказа не проступает идея события, его общий смысл. Он перелагает историю в стихи – история от этого не выигрывает ничего. Он переводит прозу на прозу.
Правда, обобщения Майков любит и, сам неоригинальный мыслью, тяготеет к идеям, но они не идут за грань обыкновенного, всем известного – он не дал России никаких умственных откровений. Лишь изредка появляется у него значительная мысль, например в стихотворении «Осенние листья по ветру кружат», где отдельные гибнущие листья переживают иллюзию и трагедию индивидуальности: они думают, что вместе с ними пришел конец и лесу, но умирают только они, а лес, вечно живой, не слышит их предсмертной тревоги. Или идет поэт, веселый, радостный, по осеннему лесу, а под его ногой в разительном контрасте шумят мертвые листья и смерть стелет «жатву свою», стелет для живого.
Вообще же событие скорее суживается от той идейной окраски, какую придает ему Майков, потому что она примитивна. Те краски без оттенков, которые присущи ему как живописцу слов, характерны для него и как для мыслителя. Поэтому и наиболее любимое обобщение его, которым он разделил историю на два мира и противопоставил язычеству христианство, во всяком случае, неново и неглубоко. Отдать язычеству плоть, а христианству – дух, заставить эпикурейца умереть на коленях девы милой, а стоика – встретить смерть мужественно, вложить в уста последнему римлянину горделивые мысли о Риме как мире – все это не оригинально, и все это мы знаем даже из учебников. Как ни сильны «Три смерти», однако вы чувствуете, что древних Майков написал не такими, как они были, а как о них судит потомок-историк. Это не древние, это – мы сами, так понимающие их. Разве не видны мы из-под этих тог и хитонов, наивно и поверхностно наброшенных на фигуры не тогдашние, а теперешние? разве перед нами не костюмированное зрелище? В особенности трафаретны христиане «Двух миров», и читателя не покидает сознание того, как непохожи они на свои живые человеческие подлинники.

«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить.
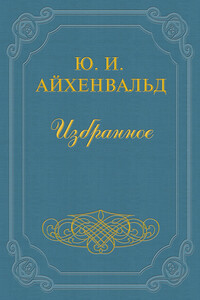
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…».
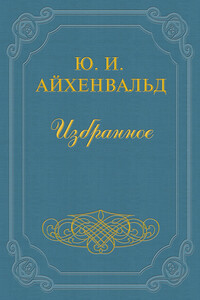
«Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: „писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности“…».
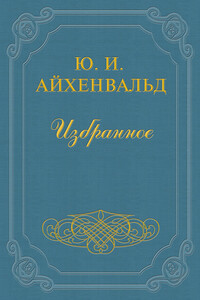
«„Слепой музыкант“ русской литературы, Козлов стал поэтом, когда перед ним, говоря словами Пушкина, „во мгле сокрылся мир земной“. Прикованный к месту и в вечной тьме, он силой духа подавил в себе отчаяние, и то, что в предыдущие годы таилось у него под слоем житейских забот, поэзия потенциальная, теперь осязательно вспыхнуло в его темноте и засветилось как приветливый, тихий, не очень яркий огонек…».

«Одинокое произведение Грибоедова, в рамке одного московского дня изобразившее весь уклад старинной жизни, пестрый калейдоскоп и сутолоку людей, в органической связи с сердечной драмой отдельной личности, – эта комедия с избытком содержания не умирает для нашего общества, и навсегда останется ему близок и дорог тот герой, который перенес великое горе от ума и оскорбленного чувства, но, сильный и страстный, не был сломлен толпою своих мучителей и завещал грядущим поколениям свое пламенное слово, свое негодование и все то же благородное горе…».

«Наиболее поразительной и печальной особенностью Горького является то, что он, этот проповедник свободы и природы, этот – в качестве рассказчика – высокомерный отрицатель культуры, сам, однако, в творчестве своем далеко уклоняется от живой непосредственности, наивной силы и красоты. Ни у кого из писателей так не душно, как у этого любителя воздуха. Ни у кого из писателей так не тесно, как у этого изобразителя просторов и ширей. Дыхание Волги, которое должно бы слышаться на его страницах и освежать их вольной мощью своею, на самом деле заглушено тем резонерством и умышленностью, которые на первых же шагах извратили его перо, посулившее было свежесть и безыскусственность описаний.

«„Герой“ „Божественной Комедии“ – сам Данте. Однако в несчетных книгах, написанных об этой эпопее Средневековья, именно о ее главном герое обычно и не говорится. То есть о Данте Алигьери сказано очень много, но – как об авторе, как о поэте, о политическом деятеле, о человеке, жившем там-то и тогда-то, а не как о герое поэмы. Между тем в „Божественной Комедии“ Данте – то же, что Ахилл в „Илиаде“, что Эней в „Энеиде“, что Вертер в „Страданиях“, что Евгений в „Онегине“, что „я“ в „Подростке“. Есть ли в Ахилле Гомер, мы не знаем; в Энее явно проступает и сам Вергилий; Вертер – часть Гете, как Евгений Онегин – часть Пушкина; а „подросток“, хотя в повести он – „я“ (как в „Божественной Комедии“ Данте тоже – „я“), – лишь в малой степени Достоевский.

«Много писалось о том, как живут в эмиграции бывшие русские сановники, офицеры, общественные деятели, артисты, художники и писатели, но обходилась молчанием небольшая, правда, семья бывших русских дипломатов.За весьма редким исключением обставлены они материально не только не плохо, а, подчас, и совсем хорошо. Но в данном случае не на это желательно обратить внимание, а на то, что дипломаты наши, так же как и до революции, живут замкнуто, не интересуются ничем русским и предпочитают общество иностранцев – своим соотечественникам…».

Как превратить многотомную сагу в графический роман? Почему добро и зло в «Песне льда и огня» так часто меняются местами?Какова роль приквелов в событийных поворотах саги и зачем Мартин создал Дунка и Эгга?Откуда «произошел» Тирион Ланнистер и другие герои «Песни»?На эти и многие другие вопросы отвечают знаменитые писатели и критики, горячие поклонники знаменитой саги – Р. А. САЛЬВАТОРЕ, ДЭНИЕЛ АБРАХАМ, МАЙК КОУЛ, КЭРОЛАЙН СПЕКТОР, – чьи голоса собрал под одной обложкой ДЖЕЙМС ЛАУДЕР, известный редактор и составитель сборников фантастики и фэнтези.

«Одно из литературных мнений Чехова выражено в таких словах: „Между прочим, читаю Гончарова и удивляюсь. Удивляюсь себе: за что я до сих пор считал Гончарова первоклассным писателем? Его Обломов совсем не важная штука. Сам Илья Ильич, утрированная фигура, не так уже крупен, чтобы из-за него стоило писать целую книгу. Обрюзглый лентяи, каких много, натура не сложная, дюжинная, мелкая; возводить сию персону в общественный тип – это дань не по чину. Я спрашиваю себя: если бы Обломов не был лентяем, то чем бы он был? И отвечаю: ничем.