Майков - [3]
Так выигрывает Россия перед Римом, когда Майков приникает к земле, к своему саду, который с каждым днем увядает, к сельской природе, к ниве, которую он всегда описывает любовно, к идиллии рыбной ловли, где он, однако, любуется собой, как рыболовом (а нельзя делать предметом идиллии самого себя); когда он приветствует русскую весну с ее шумом, и благовестом ближнего храма, и говором народа, и стуком колеса; когда он вспоминает своих ушедших сверстников и брата, «милого брата». Но даже и здесь, при этих воспоминаниях, где лиризм вполне законен, Майков хочет его скрыть. Он думает о молодости, которая улетела, о родных могилах в чужом краю, все в том же Риме, который похоронил русских юношей, «кого – увы! – не зная, земле он предает», и так проникновенно, так понятно для всех кличет он, в задушевном ритме, этот горький безответный клич:
Что же, когда человек идет по жизни, а кругом него разверзаются могилы, то здесь ли не простить себе вздоха, слезы? Но нет – поэт спешит извиниться перед другом за свое излияние:
Не это ли ключ к Майкову? быть может, то, что мы приняли за недостаток лиризма, – только душевная стыдливость, целомудренность внутреннего мира?
Утверждать это стихи Майкова не дают основания, и даже там, где они среди классических инкрустаций повествуют о чем-нибудь сердечном, о мятежном или эротическом, вы все же не верите их непосредственности, их происхождению из сердца; вам кажется, что он часто говорит «нарочно», и все эти Нины и Наины, которые будто ревнуют его одна к другой, сочинены, придуманы только ради стихотворения. Беспечность Италии, бешеная тарантелла, веселые Лоренцо – все это как-то ему не к лицу, не входит душевно в его душу. Не веришь его Нанне и Нине еще и потому, что этот слабый лирик вообще редко возвышается до естественных женских образов. Типично для него стихотворение «Сон в летнюю ночь», где описываются любовные грезы молодой девушки, и надо сказать, что местами оно нестерпимо своей банальностью, своей олеографичностью: этот юноша, который «влетел» к героине, «светел лицом, точно весь был из лунного блеска», эти «колоннады», которые приснились девушке, эти «пирамиды из роз», в которых «вереницы огней в алебастровых вазах светились»… В «Жреце» перед нами тоже – давно потускневший образ женщины-соблазнительницы: конечно, с обнаженными руками и плечами, «уста с пылающим дыханьем», и эта женщина прозаически восклицает: «Беги со мной! возьмем корабль»… Зато, впрочем, в «Неаполитанском альбоме», вообще неостроумном и свою главную героиню изображающем бледно, намечены сильными и красивыми стихами женственные чары, образ королевы Иоанны, —
Но что действительно примиряет в Майкове с отсутствием живой эмоциональности – так это иные стихотворения, в которых лирика не выражена явно, однако чувствуется запрятанной в глубине холодных стихов, под оболочкой строгой объективности. Недаром и Белинский, и, в наши дни, Мережковский, писавшие о Майкове, обратили внимание на следующее его стихотворение, высокий образец искусства:
Несказанно трогателен этот вздох отцовской печали, как бы кристаллизованный и бережно, «на берег бережно» перенесенный из далекой старины в нашу среду; здесь – соболезнование чужой давнишней скорби, не испарившейся на протяжении веков; и бедности современной так понятна и родственна эта угрюмая бедность древняя, которая могла воздвигнуть своей утрате лишь памятник скудный, но которой поэт своим стихотворением создал памятник из драгоценного мрамора слов, – и он нетленно высится над скромной могилой утонувшего рыбака, там, где под развесистой ивой отец повесил плетеную вершу. И Майков, не давший умереть старой человеческой эмоции, горю давно умершего Мениска, сумел включить это лирическое сочувствие в стихи, не ведущие чувства напоказ, в стихи спокойные и пластические, сумел изваять элегию мраморную.
Внешний и пластический, редкий посетитель внутреннего мира, изображающий охотнее всего обстановку человеческих волнений и трепетаний, Майков и стихом владеет таким, который не теплится чувством, далеко не чужд звуковых шероховатостей и не часто бывает музыкален, но зато делает порою очень уверенные изгибы и легко соединяется с другим, следующим стихом; а иногда поэтические строки так сплетены здесь между собою, так требует одна своего продолжения в другой, что вместе они образуют стихотворно-каллиграфическую вязь, красивую беспрерывность, scripturam continuam (написанное навечно (лат.)). Прочтите, например, последние строки стихотворения «Антики», и вы увидите, как сочетается конец одного стиха с началом другого. Поэт говорит о древних художниках:

«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить.
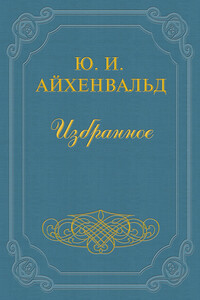
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…».
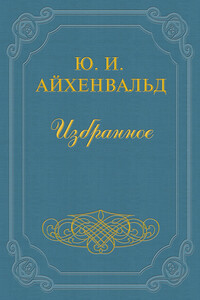
«Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: „писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности“…».
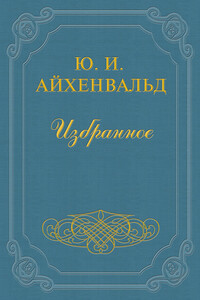
«„Слепой музыкант“ русской литературы, Козлов стал поэтом, когда перед ним, говоря словами Пушкина, „во мгле сокрылся мир земной“. Прикованный к месту и в вечной тьме, он силой духа подавил в себе отчаяние, и то, что в предыдущие годы таилось у него под слоем житейских забот, поэзия потенциальная, теперь осязательно вспыхнуло в его темноте и засветилось как приветливый, тихий, не очень яркий огонек…».

«Одинокое произведение Грибоедова, в рамке одного московского дня изобразившее весь уклад старинной жизни, пестрый калейдоскоп и сутолоку людей, в органической связи с сердечной драмой отдельной личности, – эта комедия с избытком содержания не умирает для нашего общества, и навсегда останется ему близок и дорог тот герой, который перенес великое горе от ума и оскорбленного чувства, но, сильный и страстный, не был сломлен толпою своих мучителей и завещал грядущим поколениям свое пламенное слово, свое негодование и все то же благородное горе…».

«Наиболее поразительной и печальной особенностью Горького является то, что он, этот проповедник свободы и природы, этот – в качестве рассказчика – высокомерный отрицатель культуры, сам, однако, в творчестве своем далеко уклоняется от живой непосредственности, наивной силы и красоты. Ни у кого из писателей так не душно, как у этого любителя воздуха. Ни у кого из писателей так не тесно, как у этого изобразителя просторов и ширей. Дыхание Волги, которое должно бы слышаться на его страницах и освежать их вольной мощью своею, на самом деле заглушено тем резонерством и умышленностью, которые на первых же шагах извратили его перо, посулившее было свежесть и безыскусственность описаний.

«„Герой“ „Божественной Комедии“ – сам Данте. Однако в несчетных книгах, написанных об этой эпопее Средневековья, именно о ее главном герое обычно и не говорится. То есть о Данте Алигьери сказано очень много, но – как об авторе, как о поэте, о политическом деятеле, о человеке, жившем там-то и тогда-то, а не как о герое поэмы. Между тем в „Божественной Комедии“ Данте – то же, что Ахилл в „Илиаде“, что Эней в „Энеиде“, что Вертер в „Страданиях“, что Евгений в „Онегине“, что „я“ в „Подростке“. Есть ли в Ахилле Гомер, мы не знаем; в Энее явно проступает и сам Вергилий; Вертер – часть Гете, как Евгений Онегин – часть Пушкина; а „подросток“, хотя в повести он – „я“ (как в „Божественной Комедии“ Данте тоже – „я“), – лишь в малой степени Достоевский.

«Много писалось о том, как живут в эмиграции бывшие русские сановники, офицеры, общественные деятели, артисты, художники и писатели, но обходилась молчанием небольшая, правда, семья бывших русских дипломатов.За весьма редким исключением обставлены они материально не только не плохо, а, подчас, и совсем хорошо. Но в данном случае не на это желательно обратить внимание, а на то, что дипломаты наши, так же как и до революции, живут замкнуто, не интересуются ничем русским и предпочитают общество иностранцев – своим соотечественникам…».

Как превратить многотомную сагу в графический роман? Почему добро и зло в «Песне льда и огня» так часто меняются местами?Какова роль приквелов в событийных поворотах саги и зачем Мартин создал Дунка и Эгга?Откуда «произошел» Тирион Ланнистер и другие герои «Песни»?На эти и многие другие вопросы отвечают знаменитые писатели и критики, горячие поклонники знаменитой саги – Р. А. САЛЬВАТОРЕ, ДЭНИЕЛ АБРАХАМ, МАЙК КОУЛ, КЭРОЛАЙН СПЕКТОР, – чьи голоса собрал под одной обложкой ДЖЕЙМС ЛАУДЕР, известный редактор и составитель сборников фантастики и фэнтези.

«Одно из литературных мнений Чехова выражено в таких словах: „Между прочим, читаю Гончарова и удивляюсь. Удивляюсь себе: за что я до сих пор считал Гончарова первоклассным писателем? Его Обломов совсем не важная штука. Сам Илья Ильич, утрированная фигура, не так уже крупен, чтобы из-за него стоило писать целую книгу. Обрюзглый лентяи, каких много, натура не сложная, дюжинная, мелкая; возводить сию персону в общественный тип – это дань не по чину. Я спрашиваю себя: если бы Обломов не был лентяем, то чем бы он был? И отвечаю: ничем.

Статья А. Москвина рассказывает о произведениях Жюля Верна, составивших 21-й том 29-томного собрания сочинений: романе «Удивительные приключения дядюшки Антифера» и переработанном сыном писателя романе «Тайна Вильгельма Шторица».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.