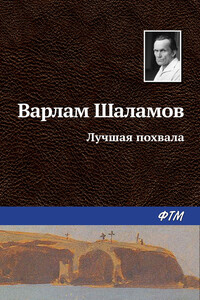Маяк - [3]
Коптилин вглядывался в далекий и неясный красный глазок, и от долгого и пристального вглядывания набегали слезы. Он не мог стереть их, и тогда казалось: глазок потух и все, что он делает, бесполезно.
«Ах ты, глазок мой ненаглядный. Сволочь! Хотя бы мигнул или загнулся к чертовой матери, и все стало бы на свои места, и я был бы в счастливом неведении. Хорошенькое счастье... Ну, разгорись! Погоди, я доберусь до тебя! Я изувечу твою гнусную ухмыляющуюся рожу. Я... Что я?»
Дрозд проснулся среди ночи от неясного ощущения пришедшей беды. Это было как в те далекие годы на Ладоге, когда он просыпался за мгновение до сигнала воздушной тревоги. Сейчас он продолжал лежать и, не открывая глаз, чувствовал, что в каюте посторонний и этим посторонним мог быть только радист. И он почему-то решил, что это связано с самолетом, который напугал их. И когда он подумал об этом, радист осторожно, но требовательно положил руку ему на плечо, и Дрозд сразу же сел.
Он читал радиограмму, прикусив зубами край нижней губы, терзая и мучая себя, как это после всего того, что видел, не отдал приказ хотя бы немного пройти вслед за удалившимся самолетом и даже не сообщил на берег. Только такой мальчишка, как Бугров, мог всерьез подумать, что их атакуют, а потом, успокоившись, говорить, что летчик хулиганил. И когда он, Дрозд, сказал: «И нам и ему хватило», — больше думал о себе. Еще бы: струсить, а затем поставить в известность и начальство, что струсил. Ему стало отвратительно за те слова. Они как бы успокаивали, подводили черту. А тогда они казались чисто мужскими: отдать предпочтение другому, одновременно не умаляя и себя.
Так, с прикушенной губой, он поднялся в рубку. Он коротко отдавал приказания, их четко и быстро повторяли рядом с ним и далеко внизу — в машинном отделении; так же четко и быстро исполняли. А ему казалось, что все делается очень медленно. Но палуба уже вибрировала, и глубоко зарывался нос — корабль набирал скорость.
Включили прожектор. Луч прыгал по черным волнам. Ветер пригоршнями бросал в лицо холодные брызги. Дрозд поежился, представив, каково летчику в такой воде, и у него сразу же заныли колени. Боль была нестерпимой, и Дрозд, как о постороннем, подумал, что в другое время он ушел бы в каюту и растирал колени водкой, а потом надел бы сухие, колючие кальсоны. Но он прогнал эти мысли, а вскоре и совсем забыл про боль. Он, как и все, вглядывался в вырываемое у темноты пространство, хотя знал, что пройдет не один час, пока они дойдут до предполагаемого места аварии.
Все, что раньше казалось важным, отошло на задний план, мельчало, и небольшой экипаж, объединенный общей тревогой, делал все возможное, чтобы найти неведомого им человека, восхищаясь его упорством, втайне размышляя, что делали бы они, окажись на его месте. И Дрозд подумал, что мужество — такое свойство, которое лучше всего заметно в других.
Наступило утро. Туман растаял, и прожектор уже был бесполезен. Море было пустынным.
— Что ж, — сказал Дрозд. — Надо искать. Надо найти. Живым... — Хотел добавить: «или мертвым», — но не решился.
Поднялись волны, и лодка тяжело переваливалась с гребня на гребень. Красный глазок качался вместе с лодкой вверх-вниз.
«Качаешься, да? Ну, давай, давай. Кто качается? Я? Или маяк? Или вся земля? Когда это кончится? Спать... Как чудесно спать и ни о чем...»
Волна подкатилась под лодку. Лодку развернуло боком, следующая волна накрыла ее, и Коптилин очутился в воде.
«Все», — сказал кто-то другой, бывший в нем, который устал от холода, голода, от попыток бороться со сном, от изматывающей пляски на волнах, которому уже было все равно. Но другой, более сильный и мужественный, упрямо плыл за ускользающей лодкой, цеплялся негнущимися пальцами за упругие борта, проклинал непослушное тело.
В лодке была вода. Коптилин выплескивал ее за борт. Он не думал о тепле, не думал о береге, не думал, что мог и может утонуть. Он наклонялся, зачерпывал ладонями воду, выливал ее за борт, вновь наклонялся. Он понимал: это — опасное оцепенение, парализуется мысль и способность к действию, — но был так измотан, что его хватало только на монотонные, обманчиво-усыпляющие движения.
«Только не уснуть. Тогда конец. Чему конец? Бессмысленным попыткам? Как это понимать: «без смысла»? Такого не существует. Все имеет свой смысл».
В привычный шум моря стали вплетаться необычные звуки. Он не мог понять их происхождения. Он работал: вычерпывал воду и греб.
Резкие, хлопающие звуки усилились. Коптилин подмял голову и разглядел очертания высокого берега. На берег кидались волны — отсюда и странные звуки.
Оцепенение прошло сразу. Коптилин чувствовал, как мускулы наливаются силой, крепнет воля, а с ней и надежда. Он действовал быстро и ловко, мыслил экономно.
«Здесь не пройти. Лодку разорвет о камни. Берег крутой. Но важно, что берег рядом. Наконец-то!»
День начинался тяжелый, влажный, а Коптилин все еще не мог пристать к берегу. Скалы уходили в низкое, мрачное небо. Море успокаивалось и лишь у берега вскипало брызгами.
Несколько часов прошли как в бреду. Лодку кидало на камни, он подставлял ладони — удар! — волна рассыпалась, била его водяной крупой и, обессиленная, оттягивалась в море, таща за собой лодку. Но набегала новая волна — и опять удар, и опять передышка.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».
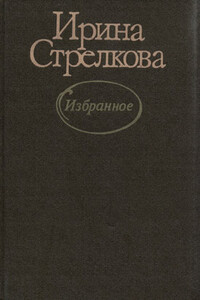
«…сейчас был еще август, месяц темных ночей, мы под огненным парусом плыли в самую глубину августовской ночи, и за бортом был Алаколь».
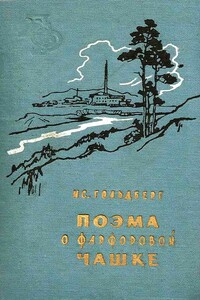
Роман «Поэма о фарфоровой чашке» рассказывает о борьбе молодых директоров фарфорового завода за основательную реконструкцию. Они не находят поддержки в центральном хозяйственном аппарате и у большинства старых рабочих фабрики. В разрешении этого вопроса столкнулись интересы не только людей разных характеров и темпераментов, но и разных классов.
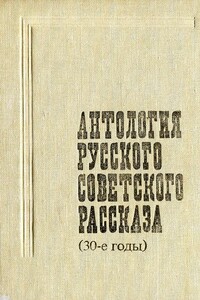
Книга раскрывает современному читателю панораму жизни нашей страны в годы коллективизации и первых пятилеток. Значимость социальных перемен, которые дала людям Советская власть, отражена в рассказах М. Горького, Л. Платонова, В. Шишкова, Вс. Иванова и других.

К ЧИТАТЕЛЯММенее следуя приятной традиции делиться воспоминаниями о детстве и юности, писал я этот очерк. Волновало желание рассказать не столько о себе, сколько о былом одного из глухих уголков приазовской степи, о ее навсегда канувших в прошлое суровом быте и нравах, о жестокости и дикости одной части ее обитателей и бесправии и забитости другой.Многое в этом очерке предстает преломленным через детское сознание, но главный герой воспоминаний все же не я, а отец, один из многих рабов былой степи. Это они, безвестные умельцы и мастера, умножали своими мозолистыми, умными руками ее щедрые дары и мало пользовались ими.Небесполезно будет современникам — хозяевам и строителям новой жизни — узнать, чем была более полувека назад наша степь, какие люди жили в ней и прошли по ее дорогам, какие мечты о счастье лелеяли…Буду доволен, если после прочтения невыдуманных степных былей еще величественнее предстанет настоящее — новые люди и дела их, свершаемые на тех полях, где когда-то зрели печаль и гнев угнетенных.Автор.