Мандельштам, Блок и границы мифопоэтического символизма - [8]
Занавес и вощеная бумага
В произведениях Мандельштама встречаются два образа, особенно выразительно показывающие — и даже воплощающие в себе — игру поэта с отличающимися продуктивной зыбкостью границами между разными сферами бытия: в одном случае речь идет о временны́х пластах, в другом — о поэзии и жизни. В таком качестве занавес и вощеная бумага служат прекрасными моделями для изменчивого и амбивалентного состояния отдаленности, посредством которого находит место в мандельштамовской поэзии символистское наследие.
В заключительном абзаце эссе «В не по чину барственной шубе» — последнего эссе автобиографического «Шума времени» (1923–1924) — Мандельштам пишет: «…с трепетом приподнимаю пленку вощеной бумаги над зимней шапкой писателя» (СС, II, 108). Приподнимание за уголок тонкого листа полупрозрачной бумаги, прикрывавшей в книгах той эпохи портреты и гравюры, визуально напоминает игру поэта с непосредственной близостью и дистанцированностью. Более того, само изображение, которое защищал слой вощеной бумаги, являет собой и непосредственность — неопосредованный контакт писателя с холодной ночью русской жизни, «где страшная государственность, как печь, пышущая льдом», и отдаленность — аристократический «мех», который «отрастил» писатель XIX в., чтобы защититься от холода: «Ночь его опушила. Зима его одела» (там же).
Ключевая тема этого эссе — переход поэта от опосредованного столкновения с символизмом в детском возрасте, переживания контакта с литературой через посредство книг и символистского «домочадца» Владимира Гиппиуса к положению Поэта в настоящем. Этот переход, метафорически отозвавшийся в изначальном выходе поэта на холод вместе с Гиппиусом, порождает амбивалентность сразу на нескольких уровнях. Отчасти она связана с классовыми вопросами, с «барственностью» русской литературы XIX в., которая будет в центре нашего внимания в связи с отношением Мандельштама к Блоку в гл. 12. Но также контакт с реальностью чреват реальными угрозами. Писатель, находящийся в основном русле русской традиции, — это писатель в мире[66]. Как сформулировал это однажды Бетеа, «прожитая жизнь поэта» становится «свидетельством подлинности текста»[67]. И сам Мандельштам видел в смерти художника заключительное, преобразующее «звено» его творчества (СС, II, 313).
Вощеная бумага, таким образом, представляет собой полупрозрачную, тонкую границу между писателем как таковым и писателем как социальным актором, между словом как искусством и словом как делом, — в сущности, между литературой и жизнью[68]. Неудивительно, что этот заключительный образ из «Шума времени» отличается богатым дуализмом. С одной стороны, форма настоящего времени «приподнимаю» может обозначать совершенное в прошлом действие, точку зрения ребенка, который, приподнимая за уголок вощеную бумагу вместе с Гиппиусом, испытывает первое ощущение будоражащего и пугающего присутствия русской поэтической традиции. Юный Мандельштам приподнимает вощеную бумагу с заключенного в книгу портрета писателя осторожно и вполне может уронить ее в испуге. С другой стороны, зрелый поэт 1920‐х гг. вынужден поднять вощеную бумагу не частично, а до конца, ибо смерти Блока, Гумилева и Велимира Хлебникова служат неоспоримым подтверждением мощной — и действительно смертельной — связи между литературой и жизнью. И тем не менее эта игра с перспективой доставляет эстетическое удовольствие — оно также ясно чувствуется в этом отрывке.
Другой локус игры с непосредственностью и дистанцией, на сей раз взятый из поэзии Мандельштама, — «театральный» занавес из стихотворения «Я не увижу знаменитой „Федры“…» (1915), завершающего каноническое издание первой мандельштамовской книги — «Камня» (1916):
На первый взгляд, в этом стихотворении утверждается недоступность культурного наследия, навсегда оставшегося в прошлом[70]. Переход от александрийского стиха расиновской «Федры» к белому стиху этого стихотворения тонко усиливает чувство барьера, что делает совершенный перевод из одной культурной идиомы в другую невозможным. Однако уже в первой октаве (первым это заметил Григорий Фрейдин) Мандельштам весьма наглядно пробуждает к жизни тот самый театр Расина, которого герой «не увидит»[71]. Более того, в первом моностихе Федра словно почти сопереживает герою, она словно так же, как и он, страдает от осознания взаимной непроницаемости их миров.

Тридцатилетний опыт преподавания «Божественной комедии» в самых разных аудиториях — от школьных уроков до лекций для домохозяек — воплотился в этой книге, сразу ставшей в Италии бестселлером. Теперь и у русского читателя есть возможность познакомиться с текстами бесед выдающегося итальянского педагога, мыслителя и писателя Франко Нембрини. «Божественная комедия» — не просто бессмертный средневековый шедевр. Это неустаревающий призыв Данте на все века и ко всем поколениям людей, живущих на земле. Призыв следовать тому высокому предназначению, тому исконному желанию истинного блага, которым наделил человека Господь.

В книге, посвященной теме взаимоотношений Антона Чехова с евреями, его биография впервые представлена в контексте русско-еврейских культурных связей второй половины XIX — начала ХХ в. Показано, что писатель, как никто другой из классиков русской литературы XIX в., с ранних лет находился в еврейском окружении. При этом его позиция в отношении активного участия евреев в русской культурно-общественной жизни носила сложный, изменчивый характер. Тем не менее, Чехов всегда дистанцировался от любых публичных проявлений ксенофобии, в т. ч.
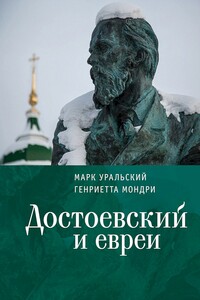
Настоящая книга, написанная писателем-документалистом Марком Уральским (Глава I–VIII) в соавторстве с ученым-филологом, профессором новозеландского университета Кентербери Генриеттой Мондри (Глава IX–XI), посвящена одной из самых сложных в силу своей тенденциозности тем научного достоевсковедения — отношению Федора Достоевского к «еврейскому вопросу» в России и еврейскому народу в целом. В ней на основе большого корпуса документальных материалов исследованы исторические предпосылки возникновения темы «Достоевский и евреи» и дан всесторонний анализ многолетней научно-публицистической дискуссии по этому вопросу. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Книга доктора филологических наук профессора И. К. Кузьмичева представляет собой опыт разностороннего изучения знаменитого произведения М. Горького — пьесы «На дне», более ста лет вызывающего споры у нас в стране и за рубежом. Автор стремится проследить судьбу пьесы в жизни, на сцене и в критике на протяжении всей её истории, начиная с 1902 года, а также ответить на вопрос, в чем её актуальность для нашего времени.

«Лишний человек», «луч света в темном царстве», «среда заела», «декабристы разбудили Герцена»… Унылые литературные штампы. Многие из нас оставили знакомство с русской классикой в школьных годах – натянутое, неприятное и прохладное знакомство. Взрослые возвращаются к произведениям школьной программы лишь через много лет. И удивляются, и радуются, и влюбляются в то, что когда-то казалось невыносимой, неимоверной ерундой.Перед вами – история человека, который намного счастливее нас. Американка Элиф Батуман не ходила в русскую школу – она сама взялась за нашу классику и постепенно поняла, что обрела смысл жизни.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.