Маленькая фигурка моего отца - [16]
Далее следует весьма подробное описание появления и действий пикирующих бомбардировщиков, деморализовавших французов и необычайно повышавших дух немецких солдат.
— Мы, — говорит отец, — с немецкой основательностью предвосхитили американскую тактику «Safety first»,[15] и перед каждой пехотной или танковой атакой методично бомбили объект, пока от него не оставалось мокрое место. Поэтому, поднимаясь в атаку, мы, естественно, не ожидали никакого сопротивления, врага-то и так уже размазала авиация! А французский поход превратился в одно бесконечное победоносное шествие, упоение, восторг!
Как порадовался бы нашим победам учитель Клосс! Мы пошли по стопам Арминия! И как пошли — твердой, уверенной поступью, в тяжелых сапогах! «Пускай, суров и боевит, немецкий дух мир исцелит!..»[16] С другой стороны, особенно в перерывах между боями, естественно, наступало отрезвление, и от этого делалось как-то не по себе. Воспоминания о недавно пережитом разворачивались в моем сознании, как кинопленка, отснятая то в замедленной, то в ускоренной съемке. Вот заживо сгоревшие в танке люди, вот взлетает на воздух крестьянский дом, вот бомбардировщики стирают с лица земли целый город. Девочка, которой кто-то надел на голову слишком большую каску, сидя на груде развалин, играет с куклой… А тебе наперебой повторяют, СОСТРАДАНИЕ — ФОРМА ТРУСОСТИ, НЕ БОЙСЯ ПРОЯВЛЯТЬ ЖЕСТОКОСТЬ, ради Германии, ради будущего, черт знает, ради чего… Тебе начинает казаться, что тебя освобождают не только от сострадания и жалости, но и еще от чего-то важного… Чтобы заглушить это чувство, существовали разные средства: для кого-то — патриотические восторги, для кого-то — алкоголь, для меня — фотография.
Из Немецкого гимнастического союза, — звучит голос моего отца, — я, ТАК СКАЗАТЬ, АВТОМАТИЧЕСКИ перешел в гитлерюгенд. В гитлерюгенд вступили большинство моих товарищей, и, конечно, мне хотелось быть рядом с ними. «Не выйдет», — возразил отчим, и я на миг онемел от удивления. Но в те времена, когда национал-социализм только набирал силу, для получения свидетельства об арийском происхождении достаточно было всего-навсего подать письменное заявление, равносильное данному под присягой. Гитлерюгенд, — произносит голос моего отца, — был для меня естественным продолжением Немецкого гимнастического союза, — может быть, в чем-то серьезнее, в чем-то современнее, форменные рубахи лучше сидели. Порядки там были строже, но вместе с тем, как бы сказать, они лучше отражали молодой дух. В Немецком гимнастическом союзе, сколько бы ты ни закалялся, ты словно бы двигался вспять, в прошлое, а в гитлерюгенде у тебя возникало ощущение, что ты маршируешь в будущее. И все-таки, — говорит отец, — там тоже хватало заурядной романтики, восхищения природой, прогулок по лесам и лугам. Мы жили в палатках, учились рыть окопы и ориентироваться на местности. Если бы нас завели в непроходимую лесную чащу, мы бы не растерялись, а выбрались бы самостоятельно. В гитлерюгенде я тоже был самым маленьким, но чувствовал, что там меня воспринимают серьезнее, чем вне его рядов: дома, в обществе, в быту.
Меня отдали в ученики, — коротенькая интерлюдия в школе закончилась провалом. «Я так и думал», — заявил господин Альберт Принц и обрек меня на обучение профессии парикмахера. «Отец был парикмахером, так пусть и сын будет. Уж с расческой как-нибудь справится…». Однако получить профессию парикмахера в начале тридцатых, когда царила депрессия, было не так-то просто, особенно, если ты, подросток, был не выше маленького мальчика. Отчим за руку водил меня из одной парикмахерской в другую, пока наконец не нашелся некий мастер Бернэггер с Цоллергассе, согласившийся «ВЗЯТЬ МАЛЬЦА НА ПРОБУ».
Он явно был от меня не в восторге. МАЛЕЦ показался ему рассеянным и не в меру мечтательным. «Когда я обращаюсь к Вальтеру, он меня будто не слышит. А если слышит, вздрагивает и роняет то ножницы, то расческу…» Вероятно, Бернэггер не прогнал меня только потому, что он, дряхлый и забывчивый старик, отставший от времени (это было заметно даже по интерьеру его салона), не рассчитывал найти другого ученика. В любом случае, за весь срок обучения он не доверил мне ничего серьезного. Например, я смахивал щеткой волосы с воротника у клиентов и отирал им лицо. В течение дня я мыл тазики для бритья, а по вечерам подметал в парикмахерской.
Самостоятельно стричь клиентов мне не разрешалось — вплоть до экзамена на звание подмастерья. Мастер в конце концов допустил меня только до бритья, но оно-то как раз и внушало мне страх. Даже для того, чтобы прикоснуться к бритве, острому, потенциально опасному предмету, мне приходилось делать над собою некоторое усилие. А бороды, брить которые мне поручал старина Бернэггер, вселяли в меня настоящий ужас. Бороды, которые нужно было стричь, он мне не доверял, мне приходилось заниматься тем, что попроще. Их он спокойно передавал в мои неловкие руки, из которых клиенты зачастую выходили еще безобразнее, чем были. С особенным отвращением вспоминаю сейчас своего единственного постоянного клиента. Звали его Кратохвил, и ко мне он чаще всего забредал, пошатываясь, из кабака напротив…

Есть люди, которые расстаются с детством навсегда: однажды вдруг становятся серьезными-важными, перестают верить в чудеса и сказки. А есть такие, как Тимоте де Фомбель: они умеют возвращаться из обыденности в Нарнию, Швамбранию и Нетландию собственного детства. Первых и вторых объединяет одно: ни те, ни другие не могут вспомнить, когда они свою личную волшебную страну покинули. Новая автобиографическая книга французского писателя насыщена образами, мелодиями и запахами – да-да, запахами: загородного домика, летнего сада, старины – их все почти физически ощущаешь при чтении.
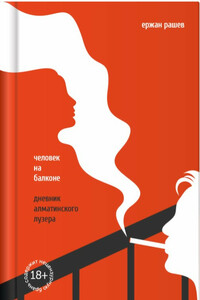
«Человек на балконе» — первая книга казахстанского блогера Ержана Рашева. В ней он рассказывает о своем возвращении на родину после учебы и работы за границей, о безрассудной молодости, о встрече с супругой Джулианой, которой и посвящена книга. Каждый воспримет ее по-разному — кто-то узнает в герое Ержана Рашева себя, кто-то откроет другой Алматы и его жителей. Но главное, что эта книга — о нас, о нашей жизни, об ошибках, которые совершает каждый и о том, как не относиться к ним слишком серьезно.
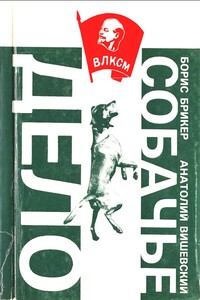
15 января 1979 года младший проходчик Львовской железной дороги Иван Недбайло осматривал пути на участке Чоп-Западная граница СССР. Не доходя до столба с цифрой 28, проходчик обнаружил на рельсах труп собаки и не замедленно вызвал милицию. Судебно-медицинская экспертиза установила, что собака умерла свой смертью, так как знаков насилия на ее теле обнаружено не было.

Восточная Анатолия. Место, где свято чтут традиции предков. Здесь произошло страшное – над Мерьем было совершено насилие. И что еще ужаснее – по местным законам чести девушка должна совершить самоубийство, чтобы смыть позор с семьи. Ей всего пятнадцать лет, и она хочет жить. «Бог рождает женщинами только тех, кого хочет покарать», – думает Мерьем. Ее дядя поручает своему сыну Джемалю отвезти Мерьем подальше от дома, в Стамбул, и там убить. В этой истории каждый герой столкнется с мучительным выбором: следовать традициям или здравому смыслу, покориться судьбе или до конца бороться за свое счастье.

Взглянуть на жизнь человека «нечеловеческими» глазами… Узнать, что такое «человек», и действительно ли человеческий социум идет в нужном направлении… Думаете трудно? Нет! Ведь наша жизнь — игра! Игра с юмором, иронией и безграничным интересом ко всему новому!
