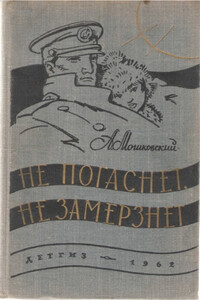Среди ночи яростно и страшно завыла сирена. Мы с Мартой спали на широком диване. Мама соскочила с кровати и бросилась к нам.
— Скорей! Скорей! Вставайте.
Я тер глаза и ничего не понимал. Под одеялом было тепло, а в доме холодно. Даже пар шел изо рта. Наступила зима, а дрова уже кончались. Мы топили через два дня.
За окном шумели тополя, сбрасывая последние листья. Они срывались черными мертвыми комочками.
— Зачем ты меня будишь? Я хочу спать.
— Разве я, сынок, бужу тебя? Гитлер будит.
Мама говорила быстро, суетливо бегая по комнате, а сирена завывала пронзительно и жутко.
Наспех одевшись, мы выбежали на улицу.
Наискосок от нашего двора, в длинном сыром подвале, находилось бомбоубежище. Мы спустились вниз. Пахнуло сыростью. Люди стояли плотно, спина к спине, и смотрели, вслушиваясь, в потолок. На нем тускло мигала лампочка, едва освещая застывшие лица и крупные капли испарины по стенам.
Я увидел Павла Петровича и пробрался к нему. Он кутался в шарф и старательно поправлял очки, держа под мышкой рыжий портфель. Я услышал, как тетя Рита ему выговаривала:
— Зачем же ты, Пава, портфель взял? В такую ночь и вдруг портфель. Золото, что ли, у тебя в нем? А галоши забыл… Людей стыдно.
— Будет, Рита… Забыл. Что ж с этого?
Марта осталась рядом с мамой. Они сидели на одном табурете, прижавшись.
— Будить среди ночи… Проклятые! — визгливо проговорила седая женщина. Ее громкий голос встревожил всех. — Мария Андреевна осталась с больным внуком. Я ее уговаривала. Да нет, упирается: «Сереженьку с кем же оставить?» — говорит. Павел Петрович, а вы все сказочки пишете?
— А вам зачем?
— И как же так вы? Теперь бы надо что-нибудь героическое, чтоб душу вывернуло. Сказочки… Садись рядом, мальчик. Садись же.
Я послушно сел на ящик. Поднимая густые брови, она говорила долго, с удовольствием, показывая редкие зубы. Все молчали. Слушали.
— А ты, Полина, все тоскуешь? Ничего, дорогая, ничего. Да ты не теряйся. Мужиков-то хватит. Может, свадебку сыграем и «горько» покричим. Алексей, конечно, человек был. Глядишь, и ученым бы стал. И деньги бы были.
Полина будто не слышала седой женщины. Потом вдруг, расталкивая тихих, сумрачных людей, кинулась к выходу. Ее поймал за руку Павел Петрович и что-то быстро заговорил, близко наклонясь к ее лицу. Полина закрывалась от него ладонями и вздрагивала беззвучно, закусив губами мокрый платок.
— Стыдитесь, гражданочка, больно вы ее обидели, — прямо надо мной сказал дедушка и закашлялся, — человеку надо помочь лаской… А вы эдак-то. Не по-советски.
Он махнул рукой и отвернулся.
Полина жила около Сеньки. Иногда она заходила к нам и играла на стареньком рояле, напевая грустно и протяжно. Я любил смотреть на ее тонкие пальцы, легко перебиравшие клавиши. Почти каждый раз она пела «Средь шумного бала».
Женщина с седыми волосами все так же, не меняя улыбки, щелкнула замочком сумки и достала конфету:
— Возьми, мальчик. Как тебя зовут? Бери же, шоколадная. Что? Не возьмешь? Эх, дикаренок. Что делает с людьми война…
Меня будто обдали горячим паром. Я отодвинулся от нее. И увидел вдруг, как она испуганно поджала губы. Она осталась одна сидеть на опрокинутом шатком ящике с большой сумкой на коленях. В двух шагах от нее стояли люди и молча смотрели в ее маленькое круглое лицо.
Уже наплывал сплошной ровной полосой рассвет, когда мы поднялись наверх. Первый трамвай, покачивая красными боками, прогремел по городу. На черных шпалах, сваленных грудой у рельс, лежал пушистый снежок. И вдруг грянула песня:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война.
Голоса звенели. По гладкому асфальту, высветленному растаявшей порошей, шагали бойцы.
Суровым показалось мне утро.
В самом конце колонны важно шел боец, чем-то удивительно похожий на Павла Петровича, но с бородкой и веселыми глазами. Он мне подмигнул и, уже не глядя на меня, сильно подхватил:
Идет война народная,
Священная война.
Рука Полины лежала на моей голове. Она, не отрываясь, смотрела на черный блестящий асфальт и удаляющуюся с песней колонну. А Павел Петрович, засунув руки глубоко в карманы, переступал с ноги на ногу, словно раздумывая: «Побежать вслед или нет?»
С зеленого забора прямо на меня смотрел плакат «Родина-мать зовет!» Женщина с плаката, точно в таком же, как мама, платке, указывала на меня пальцем.
«Родина-мать зовет!»
Мне стало жалко себя, я посмотрел на свои старые ботинки и увидел себя глазами плаката — щупленького и маленького. Я вспомнил, что под подушкой осталась никому не нужная кобура, даже без ржавого нагана.
— Мама, сколько мне лет? — спросил я.
— Восемь, сынок. А что?
— Мало…
— Очень мало, — согласилась мама.