Люди в летней ночи - [19]
Энергичное щебетание дрозда окутывает гнездо безопасностью и покоем. Счастье самочки — в ровном и неизменном тепле под ней и в неподвижности густеющего ночного воздуха вокруг. Пока ночь вот так, не шевелясь, слушает пение, ничего дурного не случится. Дрозд словно удерживает на месте воздух и все вокруг своей напевной болтовней, перемежая короткие хвастливые восклицания пространными добродушными пояснениями: отли-ично! отли-ично! — покойно-в-лесу, покойно-в-лесу — именно так, именно так!
Пиу… бумс! Бухнула, распахнувшись, дверь. Вместе с волной музыки и людского шума в белесый сумрак двора вывалился клубок тел — трое сцепившихся парней. Один из них быстро высвободился, а двое других неуклюже перевалились за угол избы. Там свидетелей не было, если не считать не стоящую внимания случайную стену да вытаращившего глаза горизонта напротив нее.
— Забыл, видать, куда пришел… перед сопляками будешь нос задирать…
Один из парней молча пыхтел, прижатый к стене. Раздалась затрещина. Наступила тишина, и только слышалось сопение.
— Ну!
Во дворе раздался говор многих голосов. Первый парень качнулся в сторону и исчез за углом, а другой, прячась в тени сараев, выбрался на дорогу и зашагал прочь, возбужденно и нетерпеливо ожидая в скором времени вознаградить себя за ночную неприятность.
Это было лишь незначительное завихрение в одной из точек пространства. Светлоокая ночь, погруженная в сон наяву, даже не заметила его. Умолк, словно невзначай, дрозд, но ему было пора…
Тааве не хотелось видеть своего добровольного помощника, который вынырнул в ту минуту из-за угла. Страсти улеглись. Пока они шумели, кто-то успел уйти с танцев, следом потянулись другие. Тааве пошел кружным путем и в Малкамяки вернулся совсем с другой стороны. Когда он шел по двору, музыка в доме, где были танцы, смолкла, но все последующее, что происходило с высыпавшей из дома шумной гурьбой, было предуготовлено разными незримыми прошлыми обстоятельствами.
— Дрозд замолчал, — сказал Элиас… — Ты слышишь? Дрозд замолчал.
Люйли ответила, не открывая глаз:
— Уже полночь.
Да. Уже полночь, наконец-то. Страстям пора улечься.
Когда Люйли шла по дороге вдоль полей, возвращаясь вечером из Малкамяки, она пребывала в неописуемом состоянии, вообразить которое не могла даже в самых своих фантастических весенних мечтаниях. Цвела черемуха, листья на березах были уже большие, дорога высохла. Все эти подробности словно хором убеждали ее — и к ним присоединялся ее внутренний голос, звучавший особенно уверенно, — что все они знали и ожидали именно такого развития событий, что они в полной мере разделяют ее переживания по поводу случившегося вечером и положившего начало чему-то новому. Ее собственная душа была на вершине блаженства. Внутри что-то радостно бурлило и подталкивало к каким-то новым впечатлениям, хотя внутренний голос на этот раз ничего ей не нашептывал относительно того, где и какие именно впечатления ее ожидают. Она только чувствовала, что ни есть, ни спать, ни работать она больше не сможет, все это осталось в прошлой жизни и казалось совершенно мелким и ничтожным. И тем не менее она страстно стремилась домой, прочь от Малкамяки, и мысленно гладила знакомую тропинку, бегущую через холмы, откуда были видны крыши Корке с печными трубами и пересеченный дорожками двор. На самом деле в ней пульсировало и билось все то же ожидание, что переполняло ее последние недели, но после краткого свидания с Элиасом тон его изменился. Не все подробности этого свидания были ей приятны, и она как бы скрывала это от себя. Но дойдя до края полей, она оглянулась через плечо и покраснела.
Спеша по лесной тропинке, она, сама того не замечая, напевала какую-то мелодию. Тропинка стелилась и убегала от ее блестящего взгляда вперед, как какое-то приниженное и угодливое существо, след ее вел в глубь леса, пробирался между деревьями, в тени которых вечерний воздух ощутимо свежел. Поспешавшая девушка была одна. Но вдруг она встрепенулась и остановила свой бег, ее темные глаза на мгновение уставились в лесную темь. Так молча стояли друг против друга два различных образа природы: вечный, сущий вне времени лес, в чьих неисчислимых клетках невидимо бродила взбудораженная весной первоначальная жизнь; и дитя человеческое, в биении чьей крови незнаемо повторялись биения тысяч ушедших поколений. Лес и человек смотрели друг другу в глаза — вне и помимо всех минувших эпох, в которые они так непоправимо удалились друг от друга и от первоначальной нераздельной слитости. Но иногда им случается вот так встретиться, и человек угадывает чувством и первоначальную слитость, и разверстую временем бездну, и ему становится страшно — даже если он обуреваем любовным восторгом.
Люйли поспешила дальше и скоро вышла к овражку, где бил ключ, — совсем недалеко от дома. Здесь она присела на валун. Воздух родных мест утишил ее волнение, и она обрела большую способность воспринимать и соображать. Перед ее мысленным взором возникли на миг дом, мать и отец, весь строй их жизни. Потом — оставшаяся там, за холмом, избушка. И Элиас… Мысли Люйли двигались теперь плавно, словно покачиваясь на легких, теплых волнах. Она испытывала спокойное желание, чтобы Элиас снова был рядом с ней, и она подумала и даже стала представлять, как они скоро встретятся где-нибудь здесь на холме. Эта картина делалась все зримее, обрастала плотью, увлекала и рождала череду других сентиментальных картин, непременным и главным лицом которых был Элиас. Все эти воображаемые картины окутывали Люйли и действовали на нее так же, как пение дрозда на самочку в гнезде, — покойно и безопасно показалось ей здесь, и она спрятала лицо в ладонях. Близость дома совершенно освободила лес от всего пугающего, и что-то хорошее и такое возможное билось рядом — у виска, касалось ладони и просилось в ее нежные сны, мерцающие в темноте между закрытыми веками и пальцами. Очнувшись, Люйли помедлила немного и, не отнимая ладоней от глаз, попыталась представить себе цветущие рядом растения — кислицу, мох, ростки черного папоротника; попыталась вслушаться и понять, что беспрестанно повторяет журчащий родник. Потом она встала и пошла к дому.

Франс Эмиль Силланпя, выдающийся финский романист, лауреат Нобелевской премии, стал при жизни классиком финской литературы. Критики не без основания находили в творчестве Силланпя непреодоленное влияние раннего Кнута Гамсуна. Тонкая изощренность стиля произведений Силланпя, по мнению исследователей, была как бы продолжением традиции Юхани Ахо — непревзойденного мастера финской новеллы.Книги Силланпя в основном посвящены жизни финского крестьянства. В романе «Праведная бедность» писатель прослеживает судьбу своего героя, финского крестьянина-бедняка, с ранних лет жизни до его трагической гибели в период революции, рисует картины деревенской жизни более чем за полвека.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга «Шесть повестей…» вышла в берлинском издательстве «Геликон» в оформлении и с иллюстрациями работы знаменитого Эль Лисицкого, вместе с которым Эренбург тогда выпускал журнал «Вещь». Все «повести» связаны сквозной темой — это русская революция. Отношение критики к этой книге диктовалось их отношением к революции — кошмар, бессмыслица, бред или совсем наоборот — нечто серьезное, всемирное. Любопытно, что критики не придали значения эпиграфу к книге: он был напечатан по-латыни, без перевода. Это строка Овидия из книги «Tristia» («Скорбные элегии»); в переводе она значит: «Для наказания мне этот назначен край».

Роман «Призовая лошадь» известного чилийского писателя Фернандо Алегрии (род. в 1918 г.) рассказывает о злоключениях молодого чилийца, вынужденного покинуть родину и отправиться в Соединенные Штаты в поисках заработка. Яркое и красочное отражение получили в романе быт и нравы Сан-Франциско.
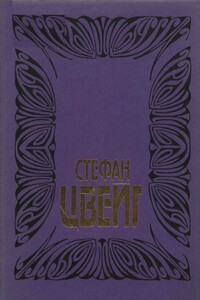
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881 — 1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В девятый том Собрания сочинений вошли произведения, посвященные великим гуманистам XVI века, «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», «Совесть против насилия» и «Монтень», своеобразный гимн человеческому деянию — «Магеллан», а также повесть об одной исторической ошибке — «Америго».

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В третий том вошли роман «Нетерпение сердца» и биографическая повесть «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой».

Во 2 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли повести «Низины», «Дзюрдзи», «Хам».