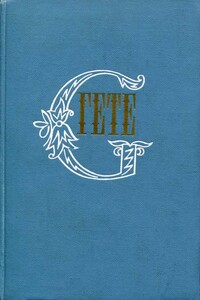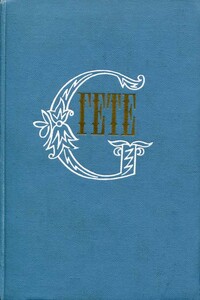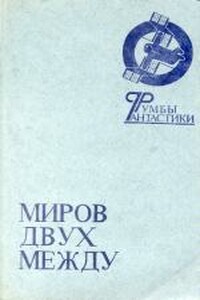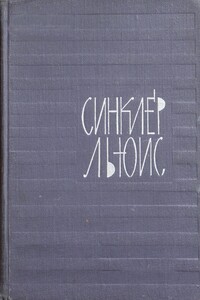Будто предчувствуя, что о многом он не успеет сказать, Щеглов спешит хотя бы коснуться, обозначить легким эскизом запас будущих проблем, о которых ему не придется рассуждать и спорить. Он пишет о романных биографиях Глинки и Бородина, о самом жанре жизнеописания великого человека, как бы сознавая, какое значение эта отрасль литературного просветительства еще займет в нашей культуре. В изящной рецензии «Перо вальдшнепа» он неожиданно откликается на переиздание книги Виталия Бианки, предвосхищая интерес к тому, что назовут позднее «экологией». И если в наши дни мы радуемся возвращению в отечественный культурный фонд поэзии Гумилева и Ходасевича, то не вправе забыть: именно Марк Щеглов был среди тех, кто громко приветствовал выход из тени искусственного забвения лирики Сергея Есенина, романтических повестей Александра Грина. Он первым взял на себя смелость сказать о Блоке как о «классике русской поэзии», ставшем в один ряд с ее «старшими богатырями», и в споре с Вл. Орловым отказался считать «субъективность» великого лирика слабостью его поэзии.
Но, может быть, мы преувеличиваем прозорливость Щеглова, его чуткость в отношении будущего? Есть ироническая французская поговорка: «Чем больше меняется, тем больше одно и то же». Многие старые литературные и жизненные проблемы, затронутые Щегловым, приобретя ныне иную словесную одежду, усложнившись, обнажившись или расцветясь, остались в сути своей прежними — не оттого ли нам не скучно читать его и сегодня, тридцать лет спустя? Просто он был честнее в отношении к своей современности и внимательнее многих своих коллег-критиков к тому, чему еще предстояло созреть и проявиться. Да и не последнее при этом сама личность пишущего, его талант, его взгляд: человеческая чуткость, искреннее искание правды никогда устареть не могут.
«Случай» Марка Щеглова дает повод еще раз задуматься о природе таланта критика. Что это за способность такая — восхититься чужим творением, как бы «врасти» в него, усвоить себе и пережить как вторично созданное твоим читательским воображением; доверчиво пойти за художником, обольщаясь всеми звуками и красками отпущенного тому дара?.. (Марк Щеглов порой невольно подхватывает в своих статьях даже интонацию разбираемого писателя — в статье о «Русском лесе» есть куски, написанные изощренной «леоновской» вязью.) А потом, поняв закон художника, по пушкинскому слову, «им самим над собою признанный», его поэтику и тайный жар, оценить его творение со стороны, как бы найдя дистанцию, с которой видны и уклонения от истины, и невольные отступления автора от закона искусства, им же утвержденного в своих правах. Судить о книге независимо, со стороны и изнутри, быть одновременно вместе с читателем и заодно с творцом, сполна «заразиться» искусством, но не до такой степени, чтобы потерять способность взвешенного оценивающего взгляда,— вот основные элементы «редкоземельного» таланта критика.
Существует азбучное противопоставление критики как области понятийного познания — художественной литературе как познанию образному. Опыт Марка Щеглова убеждает, насколько зыбко и неполно такое определение. Наверное, и художнику приходится нередко опираться на понятия. Критику же, идущему за писателем его художественной тропой, особая образная чуткость просто необходима, если он не публицист, для которого литература лишь средство иллюстрации собственных мыслей. (Такой род критической литературы тоже достоин почтения, но искусство для него в стороне.)
Марк Щеглов по натуре романтик, лирик, склонный к дружеским, исповедальным излияниям, к неостановимому потоку чувств. Он любит и знает за собой состояние захваченности, увлеченности, завороженности чужим искусством, признает порыв и безрасчетность и, быть может, более всего напоминает этим в прошлом нашей критики Аполлона Григорьева. Он хочет «думать сердцем», ценит душевную вольницу, разлив чувств.
Но есть и другая сторона у его дара: взвешенное, задумчивое, аналитическое слово, наклонное к познанию законов, руководящих жизнью. Глубже узнать и обобщить, совместить художественную картину с реальностью, извлечь социальный смысл — этому учил Щеглова университетский метод, опыт критиков-демократов XIX века, и он не пренебрегает в своих разборах ни строгим анализом, ни трезвой оценкой, часто идущей вослед увлеченному воссозданию образного мира художника.
И тогда из-под его пера выходят истинно вдохновенные страницы:
«Мы — оптимисты, но не будем же становиться ханжами! Еще в окружении «равнодушной природы» умирают дорогие нам люди, рушатся семьи, есть еще одиночество и необеспеченность и лишенные света жилища, еще, бывает, приходит к человеку нежданное, негаданное горе и он не знает, как с ним справиться, еще счастье в жизни идет в очередь с несчастьем…
Нам представляются высшей степенью холодного равнодушия те литературные «манифесты», в которых говорится о «бескрылой», «неудачливой в жизни мелкоте», которая «полезла» на страницы книг, а также брезгливые замечания о загсах и нарсудах, о так называемых «мелких дрязгах быта»… Кто эти великолепные счастливцы, спасенные жизнью даже от того, что они сдержанно именуют «некоторыми неустройствами быта», бестрепетно проходящие мимо «мелких дрязг», отраженных в деятельности столь почтенных учреждений, как загс и нарсуд, не запинаясь рассуждающие о «маленьких людях», о «мелкоте» со «слабыми идейными поджилками», об «обыденной сутолоке» жизни! Каким образом мог сложиться в наши дни этот их барский идеализм?» («На полдороге»).