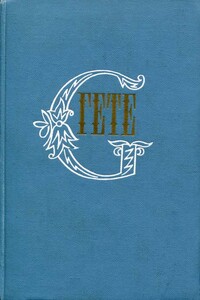Толстой, как известно, не видел реального выхода из безобразных социальных условий своего времени. Зло казалось ему неустранимым и пропитавшим все вокруг. Поэтому люди должны, по его учению, оставить все дела свои, в том числе и революционные, и обратить оставшиеся силы на образование в себе, в духе своем, идеала чистой, добродетельной жизни, каковая и придет чрез это. С этой точки зрения, моралистическое отрицание с высот «Всемирного Духа» направлялось почти без разбора на все стороны действительности. Но такое безраздельное отрицание, конечно, мыслимо только в форме рассудочной, обличительной проповеди. Когда требовалось художественно доказать религиозный, морально-полемический тезис, то приходилось иметь дело непосредственно с живой жизнью, с характерами, движимыми не логикой умозрительных построений, а собственной стихийной логикой жизни, с которой прежде всего и сообразуется великий художник. И тут, естественно, писатель должен был обращаться к самым неприглядным, действительно порочным и мизерным чертам времени и людей. Критическое острие, таким образом, направлялось как раз против того, что необходимо было изобличать, клеймить, осмеивать, хотя и из других соображений.
Жизнь Ивана Ильича Головина — это и с нашей точки зрения никчемная, порочная и ужасная жизнь, лишенная подлинной радости и сознания высокой цели, жизнь без истинно человеческого отпечатка. Тезис о неполноценности, об ужасе жизни «без бога в душе» можно было гениально проверить именно на такой вот «обыкновенной» буржуазной судьбе прокурора Головина. Но, конечно, невозможно было бы никакому гению художественного реализма проповедовать о благе мистического озарения и кротости на примере жизненной судьбы революционных бойцов или великих ученых, сознательно и со счастливой убежденностью отдающих свою жизнь за дело, далекое от идей христианства. Вот, кстати, у прототипа героя толстовской повести было два брата: один — всемирно прославленный ученый, атеист и гуманист, не раз рисковавший жизнью во время научных экспериментов, пламенно веривший в силы критического разума; другой — волонтер-гарибальдиец, человек героической биографии, один из тех русских людей XIX века, которые отдавали свою жизнь за свободу народов. Вспомним, что говорится в повести о братьях Ивана Ильича Головина; ведь они мало чем отличны от своего «среднего». (Дело, конечно, не в том, что Толстой должен был описывать точные портреты и образы тех, кто вообще встречался ему; но интересно отметить, с каких ранних стадий творчества начинается тенденция произведения — независимо от того, знал ли Толстой родню Мечникова или нет.) Если бы Толстой — попробуем допустить невозможное — попытался применить свои нравственные догмы, всю свою позднюю схему «духовного развития человека» к таким двум жизням, с каким непримиримым противоречием и фальшью в художественном замысле он столкнулся бы! Но незачем говорить о том, чего не произошло. Гениальная «художническая ощупь», говоря словами Добролюбова, движимая страстной моральной требовательностью идеолога патриархального крестьянства, направляла Толстого в единственно правильную сторону, на путь реалистического, осудительного воспроизведения действительно типических обстоятельств, характеров, образов дворянско-буржуазной действительности. Тенденция оставалась тенденцией, и она, как мы видим, начиналась уже с самого отбора явлений; Иван Ильич мог быть истолкован как представитель человечества вообще, которое зашло в тупик. Но мы знаем, куда, в какую сторону привела Толстого эта тенденция, — в сторону сильнейшего, ни с чем не сравнимого реализма разоблачения качеств именно буржуазной психологии, быта, морали.
Годы создания «Смерти Ивана Ильича» явились и в жизни всей русской литературы — шире: всей русской общественности — чрезвычайно напряженным, трудным, печальным временем, «годами скорби». Смертным поединком между героической, обреченной группкой интеллигентов, донкихотов народничества, и династией российских монархов завершался второй период русского освободительного движения. При Александре III, после разгрома народовольчества, после целой серии виселиц, расстрелов, политических процессов, ссылок, запретов и ограничений, тень обреченности легла на всю страну. Рабочее движение было еще совсем слабым. Никаких сколько-нибудь эффективных средств борьбы с деспотизмом, с угнетением народа, с феодальным политическим режимом не оставалось. На время все как бы замерло. Наступил период глухой реакции, безвременье. Кипучая, свободолюбивая русская мысль «страшной практической деятельностью… и несокрушимым гробовым холодом… теорий» 1 Победоносцева и Д. Толстого, окриками и кулаками сотен унтеров пришибеевых загонялась в серый и узкий тупик благонамеренности, православной государственности, мистицизма и «классицизма», в жесткие мундирные рамки должностной выучки и мертвой логики. Этот унизительный, всепроникающий гнет особенно чувствовала на себе литература, вообще — искусство. Передовая русская литература эпохи безвременья плакала бессильными слезами Надсона, билась о стену головою Гаршина, уходила в ссылку с Короленко, предавалась старческому унынию с Тургеневым, затравливалась с Салтыковым-Щедриным. Но, с другой стороны, только в литературе, в искусстве оставались пути спасения от византийского поклонения идее самодержавия, от волны всеобщей обывательщины, измельчания мысли и чувств, которые несла с собой реакция. Когда не оставалось возможности прямо отражать жизнь, вмешиваться в события действительности со словом поучающим, славящим или негодующим, литература и искусство обращались к традиционным обобщениям, к абстракции, к прозрачной символике, к иносказанию. Тоскливый и прекрасный образ гаршиновской «Attalea princeps», с одной стороны, и до жути смешные фигурки щедринских сказок — с другой, исчерпывающе характеризуют широкий диапазон этой «эзоповской» художественной системы. Оставалась также вне досяганий полицейской инспекции «область духа» в узком смысле слова — то есть философия с психологией. И действительно, в 80—90-е годы в русском искусстве широкое место занимают проблемы морали, религии, любви, смерти, фатума, народной души, личного счастья, добра и зла вообще, причем все это в вынужденной форме «чистого художества». В известной степени символизирует это напряжение целой культуры, это разрастание всего и вся в одну сторону образ гаршиновского безумца, который тщится сорвать ядовитый красный цветок, источающий вековое зло. В этом отвлеченно-художественном образе, в этой фантастической попытке бездна историко-психологической правды. Касаясь именно искусства 80-х годов, А. В. Луначарский писал в одной из статей: «Поэт тем более велик, чем больше у него тяга к действительности, чем больше он хочет ее познать, чтобы бороться. Бывает и так, что писатель не может бороться, так все закупорено вокруг него, и остается только один клапан — чистое художество; тогда в этот клапан устремляется вся его энергия, и получается искусство высокого напряжения, высокого страдания». Самыми большими, всемирными достижениями русского реалистического искусства поры безвременья в его разработке темы якобы «вечной», чисто художественной, говорящей о стремлении человека к свету, к добру и о мрачной, фатальной природе зла, темы «высокого напряжения и страдания», в которой с громадной экспрессией отразилась трагическая диалектика бытия, — такими наивысшими достижениями следует считать в музыке — психологический симфонизм Чайковского, в литературе — ряд гениальных повестей Льва Толстого, насыщенных морально-философской проблематикой, среди которых главное место занимает «Смерть Ивана Ильича»