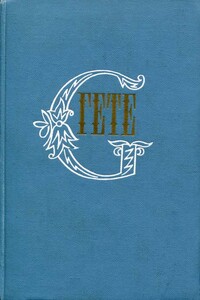от которого постепенно построилась концепция нового произведения. Как, например, для художника Сурикова несколько случайных живописных моментов (черная галка на белом снегу и т. п.) стали теми зернами, из которых выросла «Боярыня Морозова», воплотившая в себе целую сумму раздумий художника над русской историей и ряд его живописных поисков, так для Толстого случай смерти прокурора или судьи (как прямо и назван один из вариантов повести) попал удивительно в лад с его важнейшими мыслями, со всей его нравственной обличительной работой и вызвал ту детонацию, за которой последовала творческая вспышка 2 . Именно ужасная нелепость сопоставления, несоизмеримость двух образных величин, двух понятий: одного — вечного, основного, вмещающего бездну бездн, и другого — жалкого, призрачного, выдуманного людьми — легла, по-видимому, первым тезисом в новый творческий замысел. Противоречие между, так сказать, делом судейским, посюсторонним, суетным — и делом роковым, основным, душевным делом морального совершенствования, слияния с волей незримой благой силы, пустившей человека в мир,— вот что, с одной стороны, должно было питать идею повести. С другой стороны, идейно-тематический замысел повести о смерти судьи возник как образное, художественное выражение той жесткой интерпретации, которую получала в религиозно-этических трудах Толстого жизнь человека его времени. Как философу и моралисту, Толстому важно было не то, что в мире случаются жестокости, злодейства и несправедливости (это важно было ему в эпоху создания «Люцерна»), а то, что, кроме злодеев и негодяев, о проступках которых нужно специально оповещать мир, есть масса человечества, испорченная уродливой цивилизацией, живущая «не так», «не по-божески» и потому страдающая. В этом плане необычайно важно и художественно соблазнительно было показать, как в жизни большинства простых смертных, составляющих верхние слои общества, — не злодеев, а обыкновенных, может быть действительно «приличных и приятных», людей, — как именно здесь сказывается вся преступная и порочная основа буржуазно-дворянской современности.
1 См . комментарий Л. П. Гроссмана в кн.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 26.
2 Это не редкий у Толстого случай, когда чисто внешнее как будто наблюдение совпадает с подспудной творческой направленностью и становится образным зерном, из которого вырастает целое произведение. Достаточно вспомнить знаменитый сломанный куст «татарина» во вступлении к «Хаджи-Мурату».
По существу, произведение должно было стать, учитывая идеологическую среду, в которой оно созревало, учитывая также теперешнюю ненависть Толстого «к художественным пустякам», вещью агитаторской и проповеднической на уровне идеалов мужицкой, евангельской веры, к которой пришел Толстой в 80-е годы. Но здесь, по-видимому, произошла вечная и удивительная история: перо как бы вышло из повиновения мастеру, реалистическая сила искусства пересилила постную тенденцию толстовского блага. Оказалось, что части повести, рисующие пустую, шаблонную, эгоистическую жизнь преуспевающего чиновника, его скудный духовный мир, его безлюбие и самодовольную пошлость, имеют огромную силу разоблачения и укора, что они великоценны сами по себе, без мысли о потусторонней мзде или мистическом сверхзаконе всего живого. Страницы повести, посвященные мукам умирающего и казнимого ежеминутно человека, отдавшего свою жизнь исключительно заботам материального преуспеяния, тщеславия и самоуслаждения, потрясают вне всякой связи и соотнесения с тем «светом», который вспыхнул в душе у прозревшего Ивана Ильича в самый миг его смерти. Проповедью толстовской религиозной человечности, «христианским художеством» 1 повесть не стала: слишком «натурален» материал ее содержания. Недаром же, против своего новейшего обыкновения, Толстой даже не предпосылает повести «Смерть Ивана Ильича» никакого эпиграфа из священных книг; так ясно почувствовал сам писатель нерелигиозный, неморализаторский характер произведения, глубоко отличающий его от стилизованных «народных рассказов». Для проповеди в повести оказалось слишком много человеческой правды и человеческого страдания. В итоге повесть «Смерть Ивана Ильича» воспринимается как суровое обвинение общества, заменившего заветы любви к человеку требованиями комильфотности, обвинение на высоте тех «гор ненависти и злобы», какие накопились у простого человека против бар, барской жизни, против неправды, царящей в мире, против пустоты и ничтожества, в которое обратилось важное дело человеческой жизни.
1 Выражение Страхова о религиозных трактатах Толстого.
В соответствии с основным замыслом произведение строится как история жизни (или «подобия жизни») чиновника, полной суетной борьбы, призрачных успехов и возвышения по служебной лестнице, самоуслаждения, тщеславия: затем на одной из высших точек — слом, катастрофа, угроза смерти и огромная, интенсивная духовная работа, которая открывается перед лицом небытия; потом постепенный, шаг за шагом, путь очищения, духовного роста, горестное осознание ложности, гибельности всей прежней жизни; и, наконец, полное просветление, готовность жертвы, восторг слияния с началом мира и смерть, рисуемая как воскресение из мертвых. Эта общая схема типична для поздних вещей Толстого. Она, как видно, целиком основана на философских и моральных выводах толстовства.