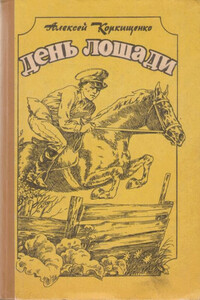Лошадиные истории - [21]
6
Я, наверное, стал бы ветврачом, если бы не война. В мечтах видел себя работающим на племенной конеферме… Но в Европе уже хозяйничали фашисты, наваливались и на наши границы, — и это сказалось на моей судьбе. В Васильево-Петровскую НСШ (неполно-среднюю школу) в конце мая, перед самым выпуском семиклассников, приехал представитель таганрогских ремесленных училищ.
— Нашей Родине нужны металлисты! — сказал он в своем выступлении. — Мы можем обучить их, сделать хорошими специалистами своего дела, но нам не хватает учеников. Нужно пополнение для ремесленных училищ Таганрога. Призываю вас проявить горячий патриотизм и записаться на токарей, на слесарей, на литейщиков!
Я «записался на токаря» и вскоре был вызван в ремесленное училище при заводе «Красный котельщик».
Очень помнится прощание с Зиной в том, сорок первом, году. Я принес ей целый килограмм житных пряников. С руки кормил ее. Она ела неторопливо, не жадничая, и как-то пытливо смотрела на меня. И, когда она съела угощение, я, обняв ее за шею, печально проговорил:
— Прощай, Зина! Прощай, мой верный боевой друг…
Это были последние слова красного казака, ее хозяина. Не знаю, почему мне захотелось произнести их. Зина встревожилась, тоскливо заржала. У меня сперло дыхание.
— Прощай, Зинуля! — едва выговорил я и пошел с бригадного двора.
И долго еще слышал ее грустное ржание, доносившееся издали.
Последний раз я увидел Зину при грозных и страшных обстоятельствах. В 1942 году, в августе, наш край был оккупирован фашистскими войсками. Я вернулся в родной хутор. Кругом гремели бои, пылали пожары.
По грейдеру за хутором тянулись нескончаемые немецкие транспорты. Гитлеровцы торопились: ехали на автомашинах, подводах, велосипедах, верхом на лошадях, которых они забирали в колхозных конюшнях.
Мы с Гришей Григорашенко и Васей Сивоусовым, пробравшись за хутор, угнали в степь пасшихся под бугром лошадей и вернулись за теми, что оставались на бригадном дворе. А двор неожиданно заполонили оккупанты. Заехало туда несколько тяжелых мотоциклов с люльками, завернули велосипедисты. Мы спрятались в бурьяне у старых силосных ям.
Солдаты окружили колодец и водопойное корыто. Умывались, обливались водой. А те гитлеровцы, у которых были поломаны машины, стали ловить бродивших по двору лошадей. На Зину, стоявшую у пустых яслей, никто не обращал внимания. Уж больно она была худа и неказиста. Одному из них, высокому кадыкастому фрицу, не досталось лошади. Ругаясь с досады, он растерянно топтался у своего велосипеда со спущенными камерами. Его приятели, потешаясь, предложили ему оседлать Зину. Показывая на нее пальцами, надрываясь от смеха, они подошли ближе к ней:
— Дас ист шён пферд![2]
— Буцефаль![3]
— Фриц, дранг нах остен![4]
Зина оскорбленно косилась на них. Кадыкастый фриц снял с плешивой головы замызганную фуражку и, дурачась, пошел к ней, словно бы галантный кавалер к даме. Он что-то говорил ей. Что именно — я не расслышал: немного оглох от волнения и ожидания чего-то непоправимо ужасного. Даже привстал из укрытия. Гриша дернул меня за руку, прошептал:
— Пригнись, увидят!
Зина сменила ноги, подняла голову. Я знал, что произойдет через мгновение.
Вот кадыкастый, подойдя к ней, отвел руку с фуражкой в сторону, поклонился. Гитлеровцы хохотали: им очень нравилось это представление. А кадыкастый фриц уже не успел разогнуться. Зина, резко качнув головой вниз, взбрыкнула, взвизгнув. Ударила с такой силой, что он отлетел на несколько метров. Мы слышали, как хрястнули кости. Она влепила ему в лоб и в грудь. Он шлепнулся на кочковатую землю, не издав ни звука. К нему бросились остальные, встревоженно загалдели.
Зина бочком-бочком отошла от яслей и старческим сбивчивым галопом поскакала через люцерновое поле в степь.
Кадыкастого обливали водой из ведра, тормошили — он не подавал признаков жизни. Его приподняли, и я увидел из бурьяна: на его лбу темнел провал от удара копыта.
Один из гитлеровцев что-то прокричал, показывая в сторону удалявшейся лошади. Она скрывалась за бугром. Взревел мотоцикл. Гитлеровец, севший в люльку, схватился за тяжелый пулемет, укрепленный на турели.
Мы затаили дыхание. Меня била дрожь.
Мотоцикл стремительно помчался вдогонку за старой лошадью. Зина уже плохо бегала, хромала на все ноги. Она и не убежала далеко. За бугром раздались длинные пулеметные очереди.
Каратели вернулись. Кадыкастый лежал неподвижно посреди бригадного двора — это был труп. Его погрузили в люльку и увезли. Уехали велосипедисты. Всадники, опасливо понукая загадочных русских лошадей, двинулись на грейдер. Бригадный двор опустел.
Мы побежали за бугор что было сил.
Старая лошадь Зина темным бугорком выделялась на желтом пшеничном поле. Мы тихо подошли к ней. Она была просто перерезана фашистским пулеметом — частые крупные строчки перечеркнули ее худое тело.
Мы вырыли могилу и захоронили удивительную, неразгаданную лошадь. Я горевал о ней, как о близком, родном человеке. Единственное утешало меня — закончила она свою жизнь красиво.
Старая лошадь Зина перед смертью оставила мне еще одну сложную психологическую загадку: она ведь никогда, ни разу в жизни не била ногами людей, даже самых злых и подлых, с такой ужасающей силой, с какой ударила кадыкастого гитлеровца, хотя была моложе и сильнее. Била, конечно, негодяев за дело, но не убивала и даже костей не ломала. В самом бешеном гневе соизмеряла силу с ударом.
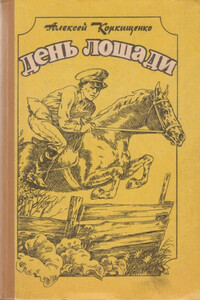
Рассказы Алексея Коркищенко из сборника «День лошади»: «Похождения деда Хоботьки», «За Желтым ериком», «Ласка», «Джигит», «Валентинка», «Интересные каникулы», «Сказки Старого леса».

Повесть о сынах Земли Яше, Грише, Вене, дочери Земли Нюрке и Космическом путешественнике.Повесть о ребятах, вначале мечтавших быть космонавтами и запускавших ракетный самовар, а затем, после лесных приключений, увлекшихся биологией.Повесть Алексея Коркищенко «Полосатые чудаки» была опубликована в журнале «Юный натуралист» №№ 1–5 в 1965 году.

В повести рассказывается о жизни ребят современного села. В острых ситуациях складывается характер главного героя — подростка Родиона Бучаева.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
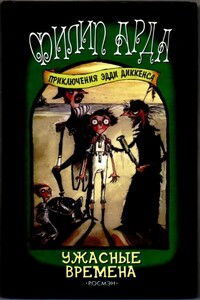
Путешествие Эдди и его компаньонки в Америку закончилось неудачно, зато сопровождалось несусветными событиями и невероятными встречами. «Ужасные времена» — последняя книга трилогии об Эдди Диккенсе.

Еще нет солнца. Над морем только ясная полоса. В это время — заметили? — горизонт близко — камнем добросишь. И все предметы вокруг стоят тесно.Солнце над морем поднимается, розовое и не жаркое. Все зримое — заметили? — слегка отодвинется, но все еще кажется близким, без труда достижимым.Утренний берег — детство.Но время двигает солнце к зениту. И если заметили, до солнца 149,5 миллионов километров…
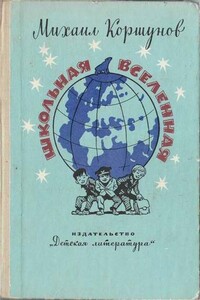
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта повесть о мальчиках и бумажных змеях и о приключениях, которые с ними происходят. Здесь рассказывается о детстве одного лётчика-конструктора, которое протекает в дореволюционное время; о том, как в мальчике просыпается «чувство воздуха», о том, как от змеев он стремится к воздушному полёту. Действие повести происходит в годы зарождения отечественной авиации, и юные герои её, запускающие пока в небо змея, мечтают о лётных подвигах. Повесть овеяна чувством романтики, мечты, стремлением верно служить своей родине.

«Подарок с неба» – трогательно-добрая история о жизни, пути, о выборе ценностей, о том, чему нужно учить сначала себя, потом детей. … С неба прилетел ангел и взял мою душу. Он отнес меня прямо к Богу и тот, усадив меня на колени, сказал: «Это еще не конец истории, и ты в ней сыграешь решающую роль». Он вновь отдал меня ангелу и тот спустил меня на землю, в огромный город, где я встретил тебя. И что мне теперь с тобой делать? И какую решающую роль я должен сыграть? Бог так мне и не сказал. Для детей 5-12 лет.