Литературный архипелаг - [103]
Оказалось, что это было письмо от питерского издательства «Шиповник», предлагавшее Шестову выпустить его полное собрание сочинений в шести томах[717]. «Понимаете, получается каламбур: шесть томов Шестова! А все это благодаря Любови Яковлевне Гуревич[718]. Она давно меня подговаривает: „Чем же вы-то хуже других?“ Так вот Копельман из „Шиповника“ и послушался. Черная сотня теперь будет говорить, что это еврейская бухгалтерия! Так пусть говорят, не так ли?»
Я был смущен и огорчен. К этому времени я уже не был так наивен, чтобы не знать, что даже самые крупные умы подвержены обычным человеческим слабостям и что среди опасностей, подстерегающих людей мысли и пера, наиболее коварными являются честолюбие и тщеславие. Но ведь потому и соблазнил меня своими писаниями Лев Шестов, что он нашел смелость приложить мерку наивысшего величия даже к таким глашатаям общечеловеческой добродетели, как Толстой, не побоявшись поднять руку на их моральный престиж. Никто лучше Шестова, казалось мне, не умел убийственной иронией заклеймить расхождение между словом и делом, между философией и жизнью. Тонкая и тончайшая его ирония свидетельствовала как будто если не об исключительной мудрости, то, по крайней мере, о тонком и тончайшем уме. Правда, уже при первой встрече в Германии ко мне стало закрадываться сомнение о глубине его проникновения в человеческое сердце, а главное — в бескорыстности его изысканий. Я удивлялся, поражался противоречивости его оценок, но счел бы непростительной дерзостью одно свое предположение о том, что Шестов находится во власти ненасытной страсти утвердить самого себя и найти всеобщее признание в качестве оригинального мыслителя еще при жизни — непременно еще при жизни. Вот, к примеру, хотя бы как Бергсон! Только теперь я вдруг понял, как глубоко его задела невинная, чисто деловая фраза в письме из Иены: «Wir haben uns auf der linie Bergson festgelegt»[719]. Мне и в голову не приходило, что Шестов с кем-то соперничает и как бы играет в перегонки. Волнение же его по поводу возможности увидеть «полное собрание» своих сочинений выдавало уже не только страстное честолюбие, но и самое обыденное тщеславие. Я был огорчен и совершенно растерялся. Но тут мне на выручку подоспел другой мыслитель-оригинал — Ительсон[720].
Григорий Борисович Ительсон и Лев Исаакович Шварцман-Шестов давно друг друга знали и, как сразу можно было заметить, давно друг друга недолюбливали. Они поздоровались с откровенно привычной холодностью, отражаясь друг в друге, как в нарочито искривленных зеркалах иронии. «Вот не ожидал!» — сказал Ительсон Шестову. «А я все смотрю, что это вас не видно», — сказал Шестов Ительсону. Оба разделяли участь философов-самоучек, оба не имели академического звания и оставались «частными учеными», дилетантами в философии. Но если для Ительсона философский конгресс был чем-то вроде осуществления философской демократии, на трибуне которой он мог развивать свои оригинальные идеи о внутренней связи между логикой и математикой наравне с общепризнанными авторитетами, то Шестову съезд этот должен был представляться, по существу, чем-то вроде «ярмарки тщеславия», толкучим рынком для сбыта поношенного тряпья. В этом смысле оба были правы в своем недоумении: Ительсон по поводу присутствия Шестова, а Шестов — по поводу позднего появления Ительсона. Григорий Борисович Ительсон, весь вид которого, высокая грузная фигура с роскошной седой шевелюрой под широкополой черной шляпой, являл собою аллегорическое воплощение тщеславия, не мог не удивиться, открыв на ярмарочной площади беспочвенника Шестова; эремит[721] же, без роду, без племени и без почвы, Шестов искренне верил, что конгресс в Болонье в лучшем случае — приманка для вездесущих лентяев, как Григорий Борисович, или вот еще для таких любознательных юношей, как приехавший из Гейдельберга с благословения «Русской мысли» несовершеннолетний студент Штейнберг. Если бы не замешался тут Бергсон…
Ительсону, однако, не нужен был никакой Бергсон. Ительсону нужен был Ительсон да еще квалифицированная аудитория, которая заслушала бы его доклад в секции по логике и математике. Он без лишних церемоний придвинул стул к нашему столику и на правах как бы старшего родственника обратился ко мне: «Я хорошо знаю вашу тетушку Эсфирь Захарьевну (младшая сестра матери Эльяшева-Гурлянд)[722]. Если у вас хотя бы десятая доля ее философских способностей, вы сможете оказать мне большую услугу. Дело в том…»
Дело оказалось в том, что Ительсон, органически не любивший писать, — и в этом отношении тоже прямая противоположность Шестову, — устные свои доклады делал всегда экспромтом, и для того чтобы они были включены в печатный отчет конгресса, надо было представить рукопись. А откуда же ей взяться? Вот если я буду присутствовать на его лекции и записывать, доклад его не пропадет. А делать его он будет по-немецки.
Тут вмешался Шестов. «Скажите, — обратился он к Ительсону, — почему вы сами не пишете? Не потому ли, может быть, что, когда вы напишете на бумаге, получается так тонко, что вы сами замечаете, что рвется? Не то что у Канта или Гегеля! — у них пряжа грубая, узловатая, ножом не разрежешь, а вот у вас вот…» Ительсон ощетинился. Мастерство, с которым Шестов отпускал обоюдоострые комплименты, подбитые язвительностью, не было секретом. К тому же совесть у Ительсона была не совсем чиста. Это именно он пустил в оборот каламбур о пяти дураках, которые слушают «Шестого». Приходилось перейти от обороны к нападению. Круглое, полное лицо Ительсона побагровело, и мне казалось, что теперь уж не избежать резкого между ними столкновения. «И зачем это, — думал я, — Шестов так больно наступил ему на мозоль? Теперь у Григория Борисовича полное право заступиться за права человека и Сократа, т. е. философа без полного собрания сочинений». Судьба, однако, уберегла представителя молодого поколения от непристойного зрелища. Бой не состоялся. Чистое тщеславие победило без боя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.
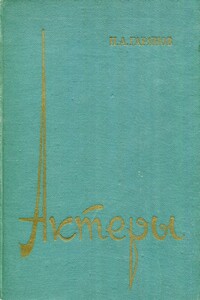
ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.

Долгая и интересная жизнь Веры Александровны Флоренской (1900–1996), внучки священника, по времени совпала со всем ХХ столетием. В ее воспоминаниях отражены главные драматические события века в нашей стране: революция, Первая мировая война, довоенные годы, аресты, лагерь и ссылка, Вторая мировая, реабилитация, годы «застоя». Автор рассказывает о своих детских и юношеских годах, об учебе, о браке с Леонидом Яковлевичем Гинцбургом, впоследствии известном правоведе, об аресте Гинцбурга и его скитаниях по лагерям и о пребывании самой Флоренской в ссылке.

Внук известного историка С. М. Соловьева, племянник не менее известного философа Вл. С. Соловьева, друг Андрея Белого и Александра Блока, Сергей Михайлович Соловьев (1885— 1942) и сам был талантливым поэтом и мыслителем. Во впервые публикуемых его «Воспоминаниях» ярко описаны детство и юность автора, его родственники и друзья, московский быт и интеллектуальная атмосфера конца XIX — начала XX века. Книга включает также его «Воспоминания об Александре Блоке».
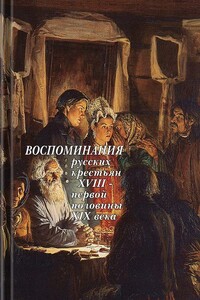
Сборник содержит воспоминания крестьян-мемуаристов конца XVIII — первой половины XIX века, позволяющие увидеть русскую жизнь того времени под необычным углом зрения и понять, о чем думали и к чему стремились представители наиболее многочисленного и наименее известного сословия русского общества. Это первая попытка собрать под одной обложкой воспоминания крестьян, причем часть мемуаров вообще печатается впервые, а остальные (за исключением двух) никогда не переиздавались.

Любовь Васильевна Шапорина (1879–1967) – создательница первого в советской России театра марионеток, художница, переводчица. Впервые публикуемый ее дневник – явление уникальное среди отечественных дневников XX века. Он велся с 1920-х по 1960-е годы и не имеет себе равных как по продолжительности и тематическому охвату (политика, экономика, религия, быт города и деревни, блокада Ленинграда, политические репрессии, деятельность НКВД, литературная жизнь, музыка, живопись, театр и т. д.), так и по остроте критического отношения к советской власти.