Литература как опыт, или «Буржуазный читатель» как культурный герой - [25]
Понимание литературного высказывания не гарантируется общностью знания или убеждения — пакт, соединяющий пишущего и читающего, имеет более сложную природу и предполагает процесс встречных «инвестиций». Читатель доверяет мастерству письма, способности писателя честно и точно, при том что косвенным путем, передавать некоторый важный опыт, но и писатель доверяет читательской чуткости, заинтересованности, готовности сотрудничать, то есть читать больше, чем написано черным по белому, воссоздавая смысл отнюдь не произвольный, не тождественный «оригинальному». Литература с этой точки зрения открывается описанию как обмен деятельностью. Смысл участия в этом обмене — двоякий: с одной стороны, он предполагает конструирование коллективных гарантий мироустройства, с другой — пересоздание форм индивидуального опыта. Эти две равно важные потребности связаны в «современной» культуре неустойчивым балансом, между ними всегда ощутимо напряжение. Поэтому, наверное, Флобер (в одном из писем Луизе Коле) настаивает на неизбывной противоречивости новейшей словесности и даже выделяет в ней «две разновидности», которые определяет так: «одну (и лучшую) я назову национальной, другую — интеллектуальной, индивидуализированной. Для осуществления первой нужно, чтобы „у масс“ наличествовали общность идей, солидарность, внутренняя связь; для полного развития второй нужна свобода»[129]. Для Флобера очевидно, что литература первого рода отсылает к зоне надежных, коллективно разделяемых смыслов, отвечает потребности в переживании общности, уверенной сопричастности. Литература второго рода отсылает к возможности индивидуального выбора, отвечает потребности в изменении, творческом эксперименте. В одном случае источником удовольствия служит опознание идентичности, подтверждение ожидаемого, в другом — удивление, ощущение риска, неожиданность открытия, не обязательно даже приятного. Фактически речь идет о двух видах ценностей, равно востребованных в «современном» мире, но трудных в достижении и тем более трудно совместимых. На этой основе и возникает аксиоматичное для Флобера (и не только для него!) представление о двух литературах: развлекательной, идеологизированной, предназначенной для потребляющей массы, — и «серьезной», свободной от идеологии, предназначенной для немногих, эстетически одаренных счастливцев. Эта оппозиция потом станет одной из опор модернистской эстетики, но с распадом ее (во второй половине ХХ века) утратит убедительность. Сегодня мы чаще говорим о двойственной потенции, присутствующей в почти любом «современном» литературном тексте. Или даже шире — о двух видах переживания, которые неразлучимы в акте литературного чтения[130] и не исключают, а обостряют и развивают друг друга. В случае выраженного неравновесия этих переживаний текст воспринимается либо как слишком пресный, либо как слишком трудный. Возможность их равновесия, всегда динамического и условного, определяется со стороны пишущего масштабом творческих амбиций, а со стороны читателя — готовностью использовать резервы неоднозначного, небуквального восприятия, осуществлять творческий маневр путем перераспределения внимания.
Становление «современности» В. Беньямин связал, как известно, с исчезновением опыта в традиционном понимании (или невозможностью транслировать опыт традиционным образом) и с поиском новых форм взаимодействия между пишущим и читающим. Передачу опыта мы привычно уподобляем предоставлению совета, но совет — не абстрактная максима, даже не ответ на конкретный вопрос, а скорее — «догадка относительно того, как продолжится чья-то история… И прежде чем просить совета, нужно уметь рассказать историю. (Не говоря уж о том, что человек прислушивается к совету лишь настолько, насколько он в состоянии облечь в слова свою собственную ситуацию»[131]. Просьба о совете — уже действие, подразумевающее свернутый, неоконченный рассказ-вопрос, а предоставление совета — действие ответного рассказывания. Талантливый рассказчик именно слышит истории-просьбы, исходящие из окружающей его культурной среды, до поры бесформенные, и умеет предоставить аудитории завершения этих историй или версии завершений. В отличие от эпического рассказчика былых времен, мудреца и учителя, наделенного заведомым авторитетом, современный романист растерян и с читателем общается на равных и даже скорее зависим от своих адресатов: и от вопросов, бессловесно порождаемых ими, и от их расположенности воспринять ответы-советы. В свете такого представления о литературном диалоге, понятно, почему для Беньямина важна метафора литературного общения как горения[132]: по ходу контакта происходит передача не конкретного содержания, а чего-то менее осязаемого, но, возможно, более ценного. Чего же? Опыта, понятого как процесс или как интеракция, своего рода энергообмен. Носителем и генератором энергии выступает словоупотребление, понимаемое как усилие творческой адаптации к другому в расчете на встречное усилие с его стороны[133].
Выразительной иллюстрацией такого взаимодействия может послужить пассаж, завершающий первый том кольриджевой «Литературной биографии». Поэт-философ рассуждает там о глубоко волнующем его предмете — Воображении, но… внезапно обрывает монолог и вставляет в текст письмо от воображаемого читателя (сочиненное, скорее всего, им самим). Выступая от коллективного лица Публики, расчетливой покупательницы книг как товара, этот безвестный, но явно дружественный корреспондент советует автору… отложить завершение трактата о Воображении до какого-нибудь иного случая: слишком уж его рассуждения пространны, загадочны, невнятны и тем похожи на «остатки разбитой винтовой лестницы, ведущей на верх разрушенной старой башни». Следование по этому странному маршруту едва ли представит интерес для читателя. «Любой читатель, не готовый и не предполагавший, как и я, погружаться в предмет столь темный и к тому же столь темно изложенный, будет вправе обвинить вас в своего рода навязчивости». Читательская «претензия» небеспочвенна (важно оценить горький самокритический юмор поэта!), но заканчивается она неожиданным пируэтом: в утешение автору читатель-аноним предлагает великолепное метафорическое описание того
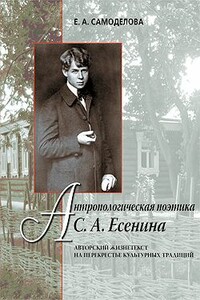
До сих пор творчество С. А. Есенина анализировалось по стандартной схеме: творческая лаборатория писателя, особенности авторской поэтики, поиск прототипов персонажей, первоисточники сюжетов, оригинальная текстология. В данной монографии впервые представлен совершенно новый подход: исследуется сама фигура поэта в ее жизненных и творческих проявлениях. Образ поэта рассматривается как сюжетообразующий фактор, как основоположник и «законодатель» системы персонажей. Выясняется, что Есенин оказался «культовой фигурой» и стал подвержен процессу фольклоризации, а многие его произведения послужили исходным материалом для фольклорных переделок и стилизаций.Впервые предлагается точка зрения: Есенин и его сочинения в свете антропологической теории применительно к литературоведению.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
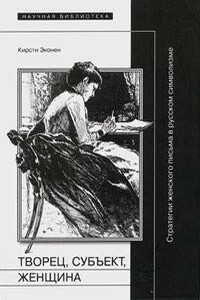
В работе финской исследовательницы Кирсти Эконен рассматривается творчество пяти авторов-женщин символистского периода русской литературы: Зинаиды Гиппиус, Людмилы Вилькиной, Поликсены Соловьевой, Нины Петровской, Лидии Зиновьевой-Аннибал. В центре внимания — осмысление ими роли и места женщины-автора в символистской эстетике, различные пути преодоления господствующего маскулинного эстетического дискурса и способы конструирования собственного авторства.

Проблемными центрами книги, объединяющей работы разных лет, являются вопросы о том, что представляет собой произведение художественной литературы, каковы его природа и значение, какие смыслы открываются в его существовании и какими могут быть адекватные его сути пути научного анализа, интерпретации, понимания. Основой ответов на эти вопросы является разрабатываемая автором теория литературного произведения как художественной целостности.В первой части книги рассматривается становление понятия о произведении как художественной целостности при переходе от традиционалистской к индивидуально-авторской эпохе развития литературы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.